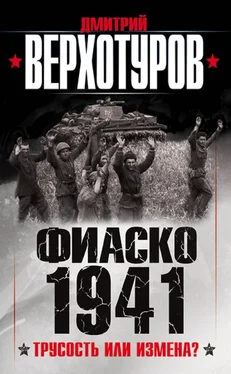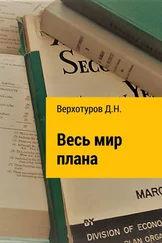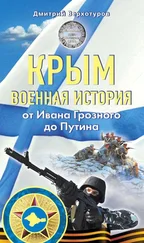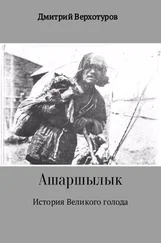У Германии был разработанный план захвата Москвы и основных индустриальных центров Советского Союза, ликвидации его как государства. А где советские довоенные планы 1940 или 1941 года, в которых разрабатывался бы вопрос захвата Берлина? Удар на Люблин – это не аргумент. Люблин вовсе не был столицей германского Рейха и вообще в территорию Рейха не входил.
Какие причины поражения Красной Армии в 1941 году?
Отвечая на этот вопрос, теперь важно подчеркнуть, что прежние трактовки, очень большое внимание уделявшие поиску персональных виновных в поражении и «катастрофе 1941 года», в сущности, не слишком обоснованны, несмотря на необозримую гору литературы, публикаций и дискуссионных комментариев на эту тему. Не обоснованны они по двум причинам. Первая причина состоит в том, что из рассмотрения фактически исключался анализ объективных причин, таких как состояние театра военных действий и транспортных коммуникаций. Водить армии и корпуса по контурной карте, конечно, дюже интересно, но к истории войны это имеет крайне слабое отношение. Если мы хотим понять причины и ход событий тех дней, мы должны учитывать все существенные факты, в число которых входят и железные дороги.
Вторая причина состоит в том, что попытки анализа причин поражения почему-то сплошь и рядом велись в отрыве от приготовлений Германии к нападению. Вот это поразительно. Враг-то делал все возможное, чтобы облегчить себе задачу и гарантировать разгром Красной Армии. В ход пошли самые изощренные приемы, вроде дезинформации в личном исполнении Гитлера и солдат полка «Бранденбург-800» в советской форме. Как можно это не учитывать?
В итоге получалась некая абстрактная Красная Армия, которая на абстрактной территории готовилась к отражению абстрактного противника. Конечно, при таком подходе нетрудно было выдвинуть любые точки зрения и насобирать факты в их обоснование, а потом запальчиво спорить с оппонентами.
Но совершенно очевидно, что движение СССР и Германии к войне в 1940-м и особенно в 1941 году было единым историческим процессом, в котором обе стороны были в определенной степени взаимосвязаны друг с другом, и эта взаимосвязь носила сложный и динамичный характер. Это и разведка, и дипломатические контакты, и торговые отношения, и дезинформация, причем двухсторонняя, и военное строительство, и подготовка армий. Все это оказывало определенное влияние на подготовку к войне. Сам процесс подготовки к войне с обеих сторон шел на совершенно конкретной территории, главным образом в бывшей Польше, у которой были свои экономические и инфраструктурные характеристики. Игнорировать это просто абсурдно, хотя очень многие историки и публицисты этим занимались десятилетиями.
Если мы поставим рассмотрение вопроса в такой контекст, то мы сразу увидим, что роль объективных факторов в поражении в начале войны была очень высока.
Во-первых, экономическое развитие районов бывшей Польши и стран Прибалтики, которые в 1939–1940 годах отошли к СССР, было настолько низким, что это не позволяло в короткие сроки провести все необходимые оборонительные меры, в частности реконструировать железные дороги, построить новые военные объекты, построить оборонительную линию вдоль границы. Армия не имела в этих районах военно-промышленной базы, поскольку ни военных, ни гражданских предприятий, пригодных для обслуживания вооружения и техники, здесь просто не было. Наличных народно-хозяйственных ресурсов было мало, да и советская политика на присоединенных территориях исключала проведение жестких военно-хозяйственных мер. Наоборот, в эти же годы велось интенсивное народно-хозяйственное строительство в рамках помощи экономическому развитию Западной Белоруссии и Западной Украины. В сущности, присоединение новых территорий серьезно ослабило готовность западных рубежей СССР к обороне.
Немцам же досталась наиболее развитая часть бывшей Польши, в том числе и те ее части, которые до Первой мировой войны входили в состав Германской и Австро-Венгерской империй и получили первоначальное индустриальное развитие. Именно в этой части Польши до 1939 года были сосредоточены почти все индустриальные и транспортные проекты польского правительства. Захват этой части Польши весьма серьезно усилил военные возможности Германии. Кроме того, Восточная Пруссия была единственным регионом в Прибалтике, который не испытал масштабной деиндустриализации и в 1930-е годы неплохо развивался в направлении усиления военно-хозяйственного потенциала. В общем итоге пропускная способность железных дорог, использованных немцами, почти в 2,5 раза превосходила пропускную способность железных дорог на советской приграничной территории, а развертывание немецкой армии опиралось на хорошую военно-промышленную базу. Иными словами, военно-экономические условия для Германии были изначально намного лучше, чем для СССР, что и дало немцам решающее преимущество перед войной – возможность быстро перевезти, развернуть и снабдить всем необходимым крупные группировки войск. Военно-хозяйственное преимущество летом 1941 года было на стороне Германии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу