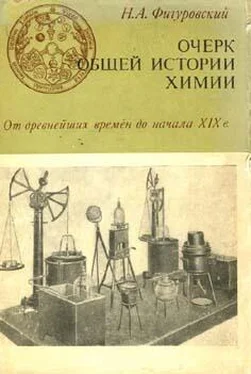Прочно стоя на платформе флогистической теории, Пристлей не смог понять подлинного значения своего открытия. Он развил весьма странные гипотезы, чтобы как-то оправдать флогистические представления, не способные объяснить новое открытие. Так, он считал, что обычный воздух состоит из селитряной (азотной) кислоты и земли и при этом содержит так много флогистона, что становится газообразным и упругим. Он полагал также, что чистый «дефлогистированный воздух» (кислород) переходит в «среднее» состояние обычного воздуха, если смешивается с «флогистированным воздухом» (азотом). Таким образом, по мнению Пристлея, кислород представляет собой смесь азотной кислоты, земли и флогистона. В такой смеси азотная кислота под действием земли утратила свою природу и лишилась своих кислых и едких свойств. Флогистики считали селитряную (азотную) кислоту соединением всеобщей (серной) кислоты с флогистоном (93).
Элементом же флогистики, естественно, считали и флогистон. Таким образом, Пристлей считал кислород сложным телом. Только значительно позднее, в 1786 г., он признал свой «дефлогистированный воздух» одним из газообразных элементов.
Однако, независимо от такого рода странных взглядов и объяснений, следует признать, что Пристлею принадлежат выдающиеся заслуги перед химией. Помимо открытия кислорода, он при помощи своей пневматической ртутной ванны получил в том же 1774 г. несколько других, до тех пор не известных газов. Действием купоросного масла на поваренную соль он получил «солянокислый воздух» (хлористый водород), а нагреванием нашатыря с известью — «щелочной» газ (аммиак). Он показал, что эти новые газообразные тела при смешивании с воздухом не испытывают никаких превращений. Пристлею удалось также собрать над ртутью фтористый кремний. Позднее он открыл сернистый газ (1775 г.), а будучи уже в Америке, окись углерода (1799 г.).
Пристлей до самой смерти оставался флогистиком-догматиком. Поэтому он не только не смог рационально объяснить, но даже и понять свои собственные открытия. В этом заключалась большая трагедия талантливого исследователя.
В годы, когда Кавендиш и Пристлей развили свои исследования в Англии, в Швеции с большим успехом работал химик-аналитик и химик-пневматик Карл Вильгельм Шееле (1742–1786) (94).
Шееле родился в семье торговца в г. Штральзунде, в то время находившемся под властью Швеции. По национальности Шееле был немцем. В шестилетнем возрасте он поступил в частную школу и учился в ней около девяти лет. В 1757 г. он покинул школу и родительский дом и в г. Гетеборге поступил учеником в аптеку М. А. Бауха, также выходца из Германии. Здесь под руководством Бауха он в течение восьми лет основательно изучил фармацию и химию, пользуясь не только библиотекой аптеки, но и практически работая в лаборатории.
В 1765 г., когда Баух продал свою аптеку, Шееле перешел в аптеку в Мальме, также в качестве аптекарского ученика. Однако в это время он превосходил своими знаниями химии и фармации даже опытных аптекарей. В Мальме Шееле познакомился с А. И. Ретциусом — видным шведским ученым того времени. Ретциус поощрял молодого Шееле в лабораторных занятиях и научил его вести лабораторный журнал. В Мальме Шееле открыл винную кислоту.
В апреле 1768 г. Шееле переехал в Стокгольм и здесь также работал в аптеке. Несмотря на менее благоприятные условия работы он продолжал свое самообразование и успел выполнить два химико-фармацевтических исследования. В 1770 г. он переехал в Упсалу — известный университетский город — и поступил в аптеку своего земляка X. Л. Локка. Локк предоставил Шееле полную свободу экспериментирования в лаборатории при аптеке и даже сам принял участие в опытах Шееле. В Упсале Шееле познакомился со знаменитым ботаником К. Линнеем и химиком Т. Бергманом. Знакомство с последним произошло при следующих обстоятельствах. Бергман приобрел в аптеке Локка селитру для своей лаборатории и забраковал ее на том основании, что после прокаливания она при действии уксусной кислоты выделяла бурые пары (95). Ни Локк, ни работавший в его аптеке студент И. Г. Ган, ставший впоследствии профессором Стокгольмского университета, не могли объяснить причин этого явления. Объяснил их лаборант аптеки Шееле, знавший, что при прокаливании селитра частично превращается в азотистокислую соль. Бергман захотел познакомиться с Шееле и посмотреть его лабораторию. В разговоре с Шееле он убедился, что имеет дело с хорошо образованным химиком. С тех пор они поддерживали тесное научное содружество. Шееле сообщал Бергману о своих новых исследованиях, Бергман же давал теоретические объяснения новым фактам, расширяя тем самым научный кругозор самоучки Шееле. Дружеская связь между обоими учеными продолжалась до смерти Бергмана (1784 г.) и оплодотворила научную деятельность обоих.
Читать дальше