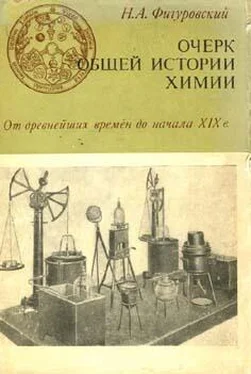Выводы, сделанные Ломоносовым из механической теории теплоты, не только подтвердили самое теорию, но и оказались вескими аргументами в пользу гипотезы об атомно-молекулярном строении материи. Впервые в истории науки атомистика получила объективные естественнонаучные доказательства. Сам Ломоносов прекрасно сознавал научное значение механической теории теплоты и при опубликовании русского перевода «Вольфианской экспериментальной физики» дал специальное добавление (34) с изложением основ этой теории.
В тесной связи с корпускулярной теорией и молекулярно-кинетическими представлениями Ломоносова стоят и его взгляды по вопросу о законе сохранения вещества и силы (или движения). Принцип сохранения силы (или движения) для Ломоносова был исходной аксиомой при рассмотрении им доказательств в пользу существования молекулярного теплового движения. Этот принцип многократно высказывался им уже в ранних работах и заметках (35). Так, в диссертации «О действии химических растворителей вообще» Ломоносов писал: «Когда какое-либо тело ускоряет движение другого, то сообщает ему часть своего движения; но сообщить часть движения оно не может иначе, как теряя точно такую же часть» (36).
Подобные же мысли высказывались им и по отношению к принципу сохранения вещества. Так, имея в виду этот принцип, он доказывал нелепость теории теплорода и резко выступал, в частности, против утверждения Бойля о возможности «сделать части огня и пламени стойкими и весомыми» (37).
Таким образом, принцип сохранения вещества и силы в аргументации Ломоносова самым тесным образом сочетался с его «корпускулярной философией» и, более того, составлял неотъемлемую часть этой «философии». Вполне понятно, что Ломоносов придавал этому принципу как части «корпускулярной философии» первостепенное значение и, высказывая в письме к Л. Эйлеру свою точку зрения по различным важным физическим и химическим вопросам, нашел необходимым привести формулировку этого принципа (1748 г.) (38), который он назвал «всеобщим естественным законом». В дальнейшем Ломоносов многократно пользовался этим законом при доказательствах развиваемых им положений.
В диссертации «Рассуждение о твердости и жидкости тел» (1760 г.) [26] Эта диссертация была переведена самим Ломоносовым на русский язык; большинство же его сочинений по химии и физике написано по-латыни.
«всеобщий естественный закон» сформулирован Ломоносовым в следующих словах: «…Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте… Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает» (39).
Заметим, что Ломоносов пришел к этой окончательной формулировке «всеобщего естественного закона», будучи зрелым исследователем, вполне оценивающим научное значение и самого закона и его приложений для объяснения различных явлений.
Скажем, наконец, об отношении Ломоносова к теории флогистона. Мы видели, что Ломоносов был противником теории «невесомых флюидов» теплорода и огненной материи как агентов различных химических явлений. Было бы естественно ожидать, что Ломоносов был противником и флогистона как одной и притом главной «невесомой жидкости», роль которой в химических процессах особенно подчеркивалась в его время. Между тем в ряде диссертаций Ломоносов пользовался теорией флогистона при объяснении различных явлений, свойств металлов, «состава» серы (40) и т. д. Однако это противоречие в его отношении к теории «невесомых флюидов» вполне объяснимо. Деятельность Ломоносова, как мы видели, относилась к периоду расцвета теории флогистона, когда среди ученых фактически не было противников этой теории. Естественно, что и Ломоносов, относившийся отрицательно к теории «невесомых флюидов», не мог игнорировать установившихся в науке того времени представлений о механизме окисления и восстановления металлов при помощи теории флогистона, тем более, что рационального объяснения этих явлений не могло существовать, так как кислород еще не был открыт.
Но, не отрицая теории флогистона, Ломоносов не сделался слепым последователем этого учения Шталя. В некоторых отношениях он подверг сомнению взгляды Шталя, что можно, например, видеть из следующего замечания: «Так как восстановление производится тем же, что и прокаливание, даже более сильным огнем, то нельзя привести никакого основания, почему один и тот же огонь то внедряется в тела, то из них уходит» (41).
Читать дальше