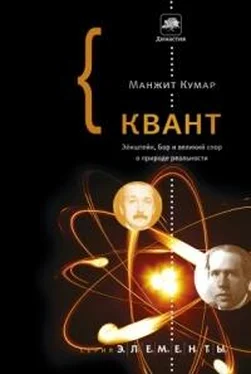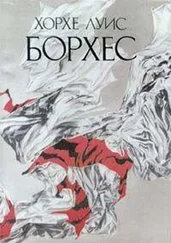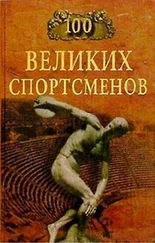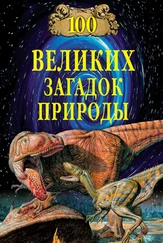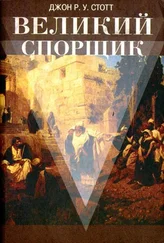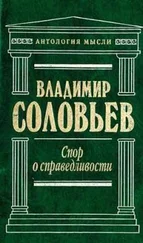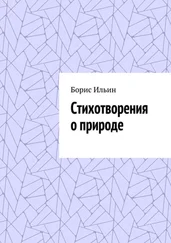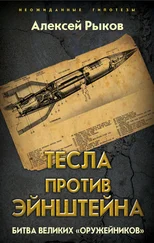Эйнштейн первым ввел в квантовую физику вероятность. В 1916 году он показал, что спонтанная эмиссия световых квантов объясняется прыжками электронов с одного атомного энергетического уровня на другой. Через десять лет Борн предложил интерпретацию волновой функции и волновой механики, в которой учитывался вероятностный характер квантовых прыжков. Но на ее ценнике указывалась сумма, платить которую Эйнштейн не хотел: отказ от принципа причинности.
В декабре 1926 года Эйнштейн высказал в письме Борну свое беспокойство по поводу отрицания причинности и детерминизма: “Несомненно, квантовая механика впечатляет. Но внутренний голос говорит мне, что это еще не истина в последней инстанции. Теория объясняет многое, но не приближает нас к разгадке секрета ‘старика’. Во всяком случае я убежден, что он в кости не играет” 76. После того как линия фронта была обозначена, Эйнштейн невольно оказался вдохновителем ее ошеломляющего прорыва, одного из величайших и самых кардинальных достижений в истории кванта — открытия принципа неопределенности.
Глава 10. Неопределенность в Копенгагене
Среда, 28 апреля 1926 года. Вернер Гейзенберг, стоя перед доской, нервничает. Бумаги разложены на столе. У блестящего двадцатипятилетнего физика были причины для беспокойства. Сейчас начнется его доклад о матричной механике на прославленном семинаре в Берлинском университете. Каковы бы ни были успехи Мюнхена и Геттингена, именно Берлин Гейзенберг справедливо считал “оплотом физики в Германии” 1. Он оглядывает аудиторию, и его взгляд останавливается на четырех профессорах в первом ряду. К имени каждого надо было добавлять — “лауреат Нобелевской премии”. Это Макс фон Лауэ, Вальтер Нернст, Макс Планк и Альберт Эйнштейн.
Нервозность Гейзенберга, “впервые имевшего возможность увидеть сразу столько знаменитостей”, быстро прошла после того, как он начал (“ясно”, по его мнению) “излагать концепцию и математическое обоснование того, что тогда считалось самой нестандартной теорией” 2. После лекции Эйнштейн пригласил Гейзенберга в гости. Полчаса, пока они шли до Хаберландштрассе, Эйнштейн расспрашивал его о семье, образовании, ранних работах. Но настоящий разговор начался, вспоминал Гейзенберг, когда они удобно расположились у Эйнштейна. Хозяина интересовало “философское обоснование последней работы” Гейзенберга 3. “Вы предполагаете, что внутри атома имеются электроны, — сказал ему Эйнштейн. — Вероятно, вы имеете на это право. Но вы отказываетесь рассматривать их орбиты, хотя в туманной камере можно видеть след, оставленный электроном. Мне бы очень хотелось услышать больше о том, на основании чего вы делаете такое странное предположение” 4. Именно такой вопрос Гейзенберг и надеялся услышать. Это был шанс одержать верх над сорокасемилетним повелителем квантов.
“Мы не можем наблюдать орбиты электронов внутри атомов, — ответил Гейзенберг, — но по величине испускаемого атомом излучения можем сделать вывод о частотах и соответствующих амплитудах его электронов” 5. Он объяснил: “Поскольку хорошая теория должна использовать только наблюдаемые величины, я подумал, что лучше всего ими и ограничиться, трактуя их... как характеристики орбит электронов” 6. “Но вы ведь не считаете всерьез, — возразил Эйнштейн, — что в теорию должны входить только наблюдаемые величины?” 7Это был удар прямо в основание, на котором Гейзенберг возвел здание своей новой механики. “Но разве это не то, что вы сделали с теорией относительности?” — парировал он.
“Хорошую шутку нельзя повторять дважды, — улыбнулся Эйнштейн. — Возможно, именно так я и рассуждал, но все равно это глупость” 8. Хотя не исключено, что с точки зрения эвристики и полезно держать в уме, какие именно величины можно наблюдать реально, заметил он, но в принципе “совершенно неправильно стараться построить теорию, используя только наблюдаемые величины”: “В действительности происходит обратное. Именно теория показывает, что можно будет наблюдать” 9. Что же имел в виду Эйнштейн?
В 1830 году французский философ Огюст Конт пришел к выводу, что поскольку всякая теория должна основываться на наблюдениях, необходима теория и для выполнения наблюдений. Эйнштейн пытался объяснить, что наблюдение представляет собой сложный процесс, включающий в себя предположения, которые используются в теориях: “Наблюдаемые явления оказывают определенное влияние на наши измерительные приборы. В результате в приборах происходят процессы, сложным путем приводящие... к чувственному восприятию и помогающие зафиксировать в нашем сознании результат эксперимента” 10. Эти результаты, утверждал Эйнштейн, зависят от наших теорий. “А вы, строя свою теорию, — заявил он Гейзенбергу, — прямо предполагаете, что весь механизм распространения света от колеблющегося атома до спектрометра или глаза работает именно так, как ожидалось, то есть, по существу, в соответствии с законами Максвелла. Если бы это было не так, вы, вероятно, не могли бы наблюдать ни одну из величин, которую вы называете наблюдаемой” 11. Эйнштейн продолжал нападать: “Вы утверждаете, что качество теории, которую вы пытаетесь построить, определяется тем, что вы не вводите ничего, кроме наблюдаемых величин” 12. “Эйнштейн застал меня врасплох, и я нашел его аргументы убедительными”, — признался позднее Гейзенберг 13.
Читать дальше