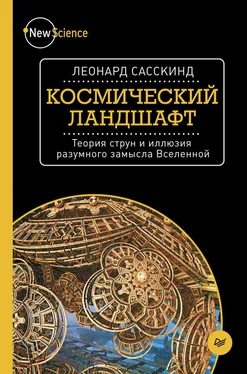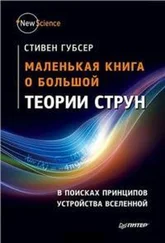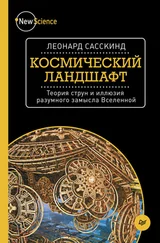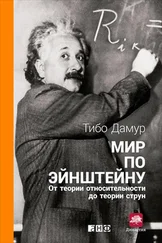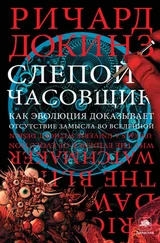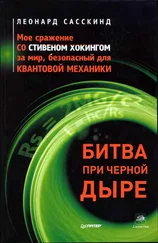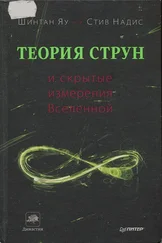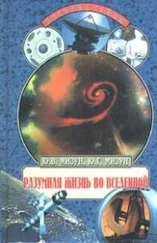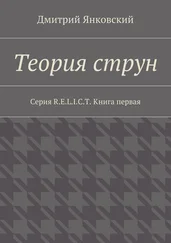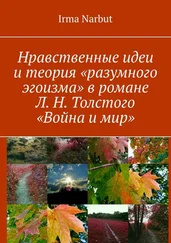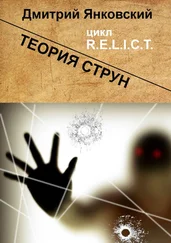Но фишики на это только вздыхали: «О господи, опять они со своими рыбацкими рассказами! Не обращайте на них внимания».
Конец.
Мою притчу ожидал оглушительный провал. В ходе семинара слышались громкие вздохи и стоны аудитории, и до конца вечеринки участники старались избегать меня. Тини тоже не впечатлился. Антропный принцип оказывает на большинство физиков-теоретиков такое же действие, так полный туристов джип на разъярённого слона.
Всякий, кто хоть что-нибудь смыслит в астрономии, не подумает усомниться в правоте осетрологов. История науки говорит нам, что существуют ситуации, в которых антропное (или ихтиотропное) объяснение имеет смысл. Но как узнать, когда это так? К каким случаям применима антропная аргументация, а в каких она неуместна? Нам необходимы какие-то руководящие принципы.
Начнём с очевидного: антропное объяснение факта X может иметь смысл, только если есть серьёзные основания полагать, что если бы X был иным, то существование разумной жизни было бы невозможно. Для умных рыб всё понятно: слишком жарко – и мы получаем рыбный суп; слишком холодно – и у нас склад мороженой рыбы. Вайнберг привёл аналогичные рассуждения в отношении космологической постоянной.
Если задуматься об условиях, необходимых для возможности существования жизни, то Ландшафт превращается в кошмарное минное поле. Я уже рассказывал, насколько фатальной является слишком большая космологическая постоянная, но существует и множество других опасностей. Требования, предъявляемые к вселенной, можно разделить на три категории. Законы Физики должны допускать существование органических соединений; основные химические вещества должны присутствовать в достаточном количестве; эволюция вселенной должна приводить к возникновению больших, гладких и долгоживущих, пригодных для жизни поверхностей (планет) с мягкими природными условиями.
Жизнь – это химический процесс. Что-то в природе атомов заставляет их собираться в самые причудливые конфигурации: гигантские молекулы жизни – ДНК, РНК, сотни белков и прочие. Хотя химия обычно рассматривается как отдельная научная дисциплина – она имеет собственные университетские факультеты и научные журналы, – на самом деле это раздел физики, который имеет дело с внешними атомными электронами. Эти валентные электроны, прыгая туда-сюда или обобществляясь между атомами, ответственны за удивительные способности атомов соединяться в разнообразные молекулы.
Как же получается, что Законы Физики позволяют таким потрясающе сложным структурам, как ДНК, существовать длительное время, не разрушаясь при столкновении друг с другом или под действием иных внешних воздействий? В какой-то степени это просто везение.
Как мы помним из первой главы, Законы Физики начинаются со списка элементарных частиц: электронов, кварков, фотонов, нейтрино и прочих, каждая из которых обладает индивидуальными свойствами, такими как масса или электрический заряд. Никто не знает, почему список элементарных частиц именно такой или почему частицы обладают именно такими свойствами. Возможно бесконечное количество других списков, но Вселенная, содержащая в себе живых существ, представляет собой совсем не то, что можно было бы ожидать от случайного набора частиц со случайными свойствами. Удаление любой частицы из списка (электрона, кварка или фотона) и даже незначительное изменение её свойств приведёт к невозможности существования обычной химии.
Это очевидно в отношении электронов и кварков, из которых состоят атомы и атомные ядра, но, возможно, не столь очевидно в отношении фотона. Фотоны – это крошечные «пули», из которых состоит свет. Разумеется, без них мы не могли бы видеть, но ведь остаются слух и обоняние, так что, возможно, фотон не так важен, как электрон или кварки? Это большая ошибка. Фотоны являются клеем, скрепляющим атомы вместе.
Что удерживает валентные электроны на своих орбитах? Почему они не улетают прочь, говоря «Адью!» протонам и нейтронам? Ответ: сила электрического притяжения между разноимённо заряженными электронами и атомными ядрами. Электрическое притяжение отличается от притяжения между мухой и липкой лентой. Муха может быть очень крепко приклеена к липкой ленте, но раз от неё оторвавшись, даже очень лёгкая муха немедленно освободится от ленты. Муха улетит прочь и, если только она не настолько глупа, чтобы вернуться обратно, она будет полностью свободна. На физическом жаргоне силы, удерживающие муху на липкой ленте, называются короткодействующими – они не простираются на большие расстояния.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу