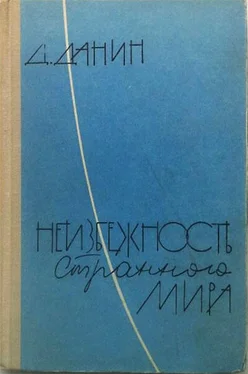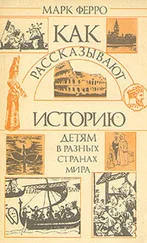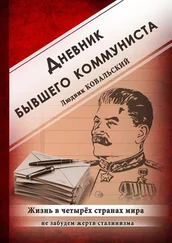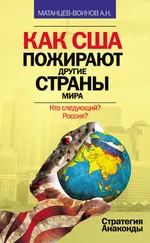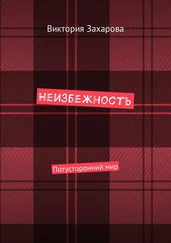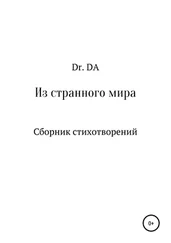2·10 -6секунды — собственное время жизни мезонов. Физики ухитрились его измерить непосредственно с помощью все тех же туманных фотографий. Экспериментаторы проследили, как останавливается очень медленный мезон и, потом распадается с опусканием быстрого электрона и нейтрино, которым он завещает свою энергию-массу. Две миллионных секунды —» это время жизни мезона по «мезонным часам».
Когда летит чудовищно быстрый мезон, на земных лабораторных часах успевает за одну миллионную «мезонной секунды» пройти 10, 20, 30 или еще больше миллионных долей секунды земной! А мы измеряем скорость мезона в земных километрах и земных секундах. Оттого-то, родившись в стратосфере, мезон, несмотря на краткость своей жизни, умудряется пролететь не полкилометра, а в 10, 20, 30 раз большее расстояние — 5 земных километров, 10, 15… И туманные камеры гостеприимно встречают его даже на дне воздушного океана — на уровне моря. И уж тем более на уровне арагацких вершин, откуда ближе до неба на целых три километра.
Хидэки Юкава мог радоваться: все его предсказания сбылись. Какое торжество теоретического предвидения! И все было бы в самом деле хорошо, ясно и просто, если бы… Если бы мезоны, открытые Андерсоном, действительно были бы мезонами, предсказанными Юкавой. Но замысловаты пути исследования невидимого и неслышного.
…Вот из какого далекого далека начнет, вероятно, старожил Арагаца свой рассказ о неоновой рекламе над Кара-гелем. Любопытствующий турист, пожалуй, потеряет терпение.
— Знаете, старые легенды о потонувших красавицах, честное слово, были короче и понятней.
(Думаю, он остережется добавить: «и интересней».) А старожил усмехнется:
— Я предупреждал: это целая история.
И, может быть, потому, что усмешка выйдет у него не очень уж радостная, недоумевающий турист все-таки попросит продолжать, но только с обычной туристской нетерпеливостью заранее осведомится:
— Так в честь какого мезона горит у вас этот неон — в честь открытого Андерсоном или в честь предсказанного Юкавой?
— Ни то и ни другое. Эта надпись сделана в честь надежд и упорства. Дело было так…
— В общих чертах, конечно? — вежливо намекнет турист.
— Не бойтесь, в самых общих.
12
Теперь представьте себе, как в начале сороковых годов выглядел, по мнению физиков, мир элементарных частиц. Его население увеличилось еще на пару близнецов, очень напоминавших электрон-позитрон: это были два мезона — положительный и отрицательный.
Все физики безоговорочно признавали, что найдены именно ядерные кванты Юкавы. А ведь только этих квантов и недоставало «для полноты картины» — для объяснения взаимодействия частиц в атомных ядрах. Снова стало казаться, что все обитатели микромира уже открыты и нет особых причин ожидать появления каких-нибудь новых гостей.
Конечно, не стоит думать, будто то была железная уверенность. Нет, никто не взялся бы доказывать это во всеуслышание. Еще не существовало, как, впрочем, и сегодня еще не существует, общей теории элементарных частиц. Не было и пока еще нет такой теории, которая могла бы заранее обнадежить экспериментаторов в их исканиях или, наоборот, «могла бы предупредить их: «Не тратьте силы попусту, никаких новых частиц в запасе у природы нет!» [5] Единственное надежное предсказание, сделанное теорией еще в конце 20-х годов и остающееся в силе сегодня, — это неизбежность существования для каждой частицы как бы зеркального ее двойника — античастицы. У этого предсказания — его сделал замечательный английский теоретик Поль Дирак — было внешне очень простое происхождение: эйнштейновская формула для энергии-массы частицы содержала квадратный корень, а у квадратного корня всегда два знака: «+» и «—». Значит, каждому значению массы частиц должны соответствовать не одна, а две «противоположные» частицы. Дирак не сразу поверил в свое предсказание. Академик Тамм, часто встречавшийся в ту пору с Дираком, рассказывал, как вечно молчаливый англичанин был тогда озадачен своим прогнозом — он даже становился словоохотливым, когда говорил На эту тему. А в работах самого Дирака можно прочесть, что сначала он полагал, будто положительно заряженный протон и есть античастица электрона! У него только вызывало недоумение громадное различие в массах обеих частиц. Каким непостижимым кажется это заблуждение сегодня! В пору было хоть отказаться от собственного предвидения! Однако Дирак этого не сделал. И через несколько лет, в 1932 году, оно было впервые подтверждено открытием настоящего антиэлектрона — положительной частицы позитрона.
Читать дальше