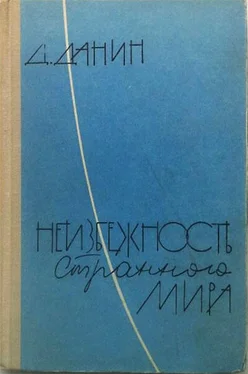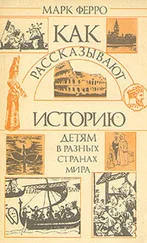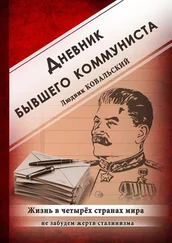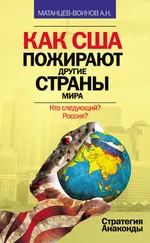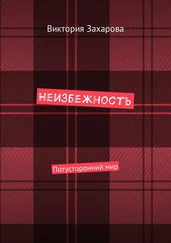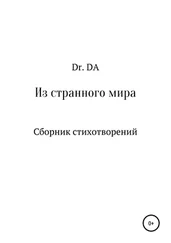Узкий гуманный след тянется за космической частицей, обозначая череду ионов, созданных ею на своем пути. Теперь нужно на долю секунды включить юпитеры и заснять происшедшее — фильм будет готов. Незримое и неслышное станет явным.
Только нельзя снимать преждевременно — надо дать образоваться туманному следу, и нельзя запаздывать — иначе туман рассеется, и след расползется. Словом, почти синхронно происходят четыре события: появление частицы в камере Вильсона, расширение объема камеры для создания пересыщенности в парах, включение света, срабатывание затвора съемочного аппарата. Так организована съемка в физической киностудии на Арагаце. И, конечно, все происходит автоматически: частица не предупреждает о своем появлении. Она летит со скоростью, близкой к световой, и уследить за нею немыслимо. Она должна сама командовать съемкой! Физики все устроили так, что она действительно подает команду, которая беспрекословно исполняется.
Тут снова работает ионизация.
Космическая частица летит сверху — падает с неба. Выше туманной камеры она встречает барьер из металлических трубочек. Они тоже наполнены газом. Трубочки тонкостенные. Внутри каждой протянута тонкая проволочка. Это столь же знаменитые, как и камера Вильсона, счетчики Гейгера-Мюллера. Проскочить на сцену, минуя барьер, частица не может: счетчики образуют плотную крышу над камерой. Но эта крыша для космической гостьи отнюдь не преграда — она без труда пронизывает попавшуюся ей на пути трубочку. Нейтральные атомы газа внутри счетчика постигает та же участь, что в туманной камере: частица срывает с них электроны, и атомы становятся ионами. Но в камере Вильсона они никуда не спешат — их ничто не притягивает, наоборот, привлекательные незнакомцы, они сами служат притягательными центрами для молекул пара. А в счетчиках ионы — настоящие странники. Их притягивает проволочка, натянутая внутри: дело в том, что она находится под напряжением.
Ионы тотчас устремляются к ней. Возникает Давка и даже драка: торопящиеся ионы газа уже сами действуют как первоначальная космическая частица, По дороге к проволочке они срывают электроны с наружных оболочек своих недавних близнецов — других нейтральных атомов газа. Конечно, энергия ионов ничтожна по сравнению с энергией космической частицы, но зато их много. И хотя каждый порождает сравнительно мало новых ионов, заряженная лавина быстро нарастает. За какую-нибудь миллионную долю секунды раздается короткий, но довольно сильный удар электрического тока — электрический импульс. Ну, а дальше дело чистой техники заставить его работать.
Тут кончаются заботы физиков и начинаются хлопоты инженеров. Усилив этот импульс тока, они могут делать с ним все что угодно, хоть включать с его помощью световую рекламу над будущей туристской базой «Мезон». Сейчас эти импульсы включают съемочную установку на Арагаце.
…В лаборатории тихо. Только негромко перебрасываются словами лаборанты. «У тебя когда отпуск?» — «Да неизвестно. А в Ереване сейчас ве-есело…» — «Говорят, Сароян приезжает, слышал?» — «Бро-ось!» И вдруг раздается что-то вроде удара бича и глубокий вздох. Это пролетела и снялась на пленку талантливая частица: вздохнула, расширив свой объем, камера Вильсона, вспыхнули и осветили сцену мощные лампы, и потонули в этом шуме быстрые щелчки сработавших затворов съемочных аппаратов. Порожденный частицей импульс тока сделал свое дело!
И снова в лаборатории тихо. Лаборанты склоняются над приборами. В журнале наблюдений появляются записи показаний вздрогнувших стрелок на пульте установки. Сколько продлится тишина — никто не знает: нужные частицы приходят без расписания, и они редки.
Своим умением самофотографироваться в полете космические частицы в конце концов обязаны инженерам нашего времени.
3
Кинокадры, что держу я сейчас против света, отнюдь не самые удачные (оттого-то мне их и подарили). Приходит на память, как Артемий Исаакович Алиханян, согнувшись над стереоскопом в Арагацкой лаборатории и просматривая очередную заснятую пленку, говорил: «Надо было уменьшить запаздывание — следы недостаточно четкие». Лаборанты молча соглашались. Я подыскивал сравнение для будущего очерка. В голову пришло самое простое, банальное, но точное: «Ах, значит, из-за опоздания туман успевал чуть расползтись, как белый шлейф самолета в безоблачном небе!»
Но существенней было другое.
Приглядываясь к пленке и сверяясь с бухгалтерским гроссбухом лаборатории, Алиханян негромко повторял: «Нет, это, конечно, протон». Или: «Тут вероятней всего мю-мезон». Шуршание перематываемой под стереоскопом пленки, и снова тот же голос без энтузиазма: «И здесь типичный протон». Или: «Легкий мезон, это ясно».
Читать дальше