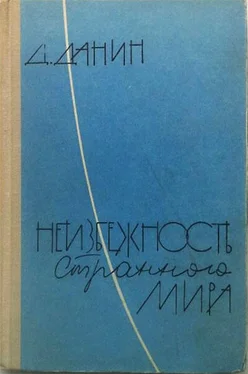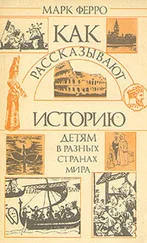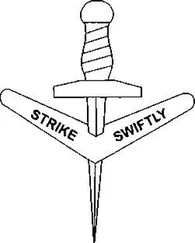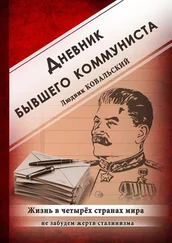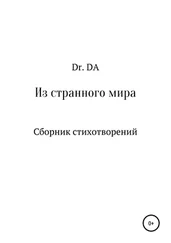И хотя разговор, повторяя чудовищный рельеф дороги, был весь в горбах и провалах, я услышал немало интересного. Скоро писателей надолго оставили в покое — заговорили только о своем. Нет, конечно, они не жаловались на трудности своей работы. Когда альпинист рассказывает, как тяжело достаются ему восхождения, не попадайтесь на удочку — не выражайте сочувствия, вы окажетесь в глупом положении. Вообще не выражайте сочувствия добровольцам творчества. А так как у творчества есть только добровольцы, не верьте их слезам: раньше или позже вы очутитесь в дураках.
И, слушая теоретиков, я испытывал чувство, что трясусь под дождем и ветром в обществе глубоко счастливых людей.
(Однако поймите, пожалуйста, правильно: ощущалась не та их счастливость, какая измеряется степенью житейского благоустройства, а другая, труднее определимая.
С житейским благоустройством, может быть, и не у каждого все было в порядке. Так, я знал, что у одного из них, человека на редкость привлекательного и достойного всяческой счастливости, неудачно сложилась жизнь в семье и ему надо было решаться на серьезные вещи. Наверное, поэтому он был тих и молчалив вдвойне против обычного. Но по «гамбургскому счету» всей жизни — по счету не быта, а бытия — и он был счастливцем.)
Понимаете, кроме всего прочего, что уравнивало их с любыми добровольцами творчества, они ощущали себя самыми передовыми альпинистами века. Они разговаривали с сознанием, что их лагерь раскинут на мировом перевале современной науки и что лучшие часы их работы — это вылазки к высотам еще не знаемого без всяких проводников! Они прямо говорили об этом, без пафоса и без самодовольства, но видно было, что неоспоримость такого положения вещей доставляла им глубокое, очевидно самое глубокое из возможных, счастливое самоудовлетворение.
А с другой стороны:
— Скверно, когда целый день надо только считать. Нового ничего нет, и только считаешь, считаешь… Вот это писателям незнакомо. Все на свете проклянешь!
Не помню точно, кто это сказал — Грибов или Окунь, но все понимающе заулыбались. Я тоже улыбнулся, как единственный представитель племени литераторов («это писателям незнакомо!»). А затем мне пришлось еще раз улыбнуться от имени всех пишущих, но уже не иронически, а только понимающе, когда Владимир Грибов с милой своей, немножко грустной усмешкой сказал примерно так:
— А бывают хорошие дни, когда в голове что-то есть, и здорово работаешь, и радуешься результатам. И тогда идешь куда-нибудь вечером — прекрасное самочувствие, отличное настроение. Втайне, может быть, и не очень уверен в сделанном, но сомнения откидываешь. А утром… Посмотришь, проверишь, — он махнул рукой, — оказывается не то, вздор! И тогда…
Его перебили. Снова все заулыбались. Игорь Дятлов — застенчиво, Иосиф Гольдман — тишайше, Лев Окунь — внимательно и чуть напряженно. Каждый — по характеру. Но все узнали свое, хорошо знакомое. И тут разговор, скачущий, как прицеп, стал на минуту совершенно писательским. Точно вели его не ученые — «мастера логического производства», а обыкновенные художники, актеры, поэты. — И вполне в духе этой нечаянной дискуссии Аркадий Бенедиктович Мигдал подвел ее итог ссылкой вовсе не на ученые авторитеты. Он сказал:
— В общем у теоретиков тоже так не бывает: «Пришел поэт, легко разжал уста, и сразу запел вдохновенный простак — пожалуйста!» У нас тоже — как это дальше у Маяковского? — щелкнул он пальцами. — Ах, вот:
…оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Наверное, впервые прозвучали эти точные строки на высоте 3 тысяч метров, да еще в обстановке, совсем не располагавшей к поэзии, да еще ПО такому поводу, какой вряд ли мог пригрезиться молодому Маяковскому, когда писал он «Облако в штанах».
…Будем считать эти несколько страниц необязательного отступления площадкой роздыха на нашем пути. Во всяком случае, как видите, нет причин удивляться тому, что Макс Борн сперва именно почувствовал , какая правда природы прячется за пси-волнами Шредингера. Дело это обыкновенное.
Зато есть очень веские причины удивляться самой этой правде — так она неправдоподобна!
Борн рассказывает, что должно было пройти некоторое время, пока ему «удалось найти физические аргументы» в пользу осенившей его догадки. Для нас эти аргументы слишком громоздки. Снова надо плыть и барахтаться «глупой вобле» нашего воображения.
Читать дальше