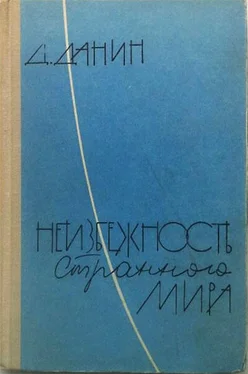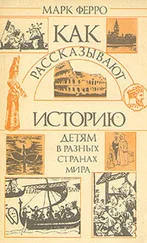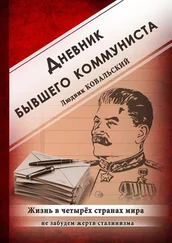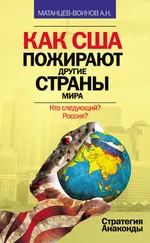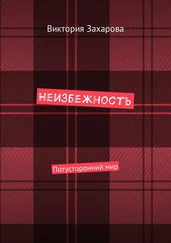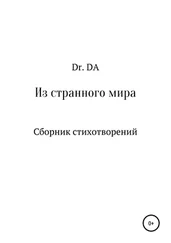«Элементарный квант действия. Эта постоянная и есть тот таинственный посол из реального мира, который вновь и вновь появлялся на сцену при различнейших измерениях и… настойчиво требовал себе места в физической картине природы». Так говорил Макс Планк.
Вы слышите: посол из реального мира!
Да, конечно. Ведь любое измерение — только подражание тому, что может произойти и происходит в самой природе.
Когда потоки солнечных фотонов врываются в атмосферу Земли и рассеиваются на молекулах воздуха, они делают точно то же, что накалывающий фотон под воображаемым микроскопом Гейзенберга: они «измеряют положение» встречных молекул. Разница лишь в том, что никто не регистрирует результаты этих измерений. Природе это без надобности. А физик не может воспользоваться плодами таких бесконтрольных событий — ему неизвестны условия внелабораторного опыта. Но вспомните: синева неба подводит итог этого грандиозного эксперимента, который невольно ставит природа. Мопертюи сказал бы, что так «управитель вселенной» измеряет местоположение атмосферных частиц. Однако бывший драгунский капитан должен был бы признать, что тогда господь бог поступает не очень-то разумно: он использует для опыта не самые подходящие фотоны — слишком длинноволновые. И Вольтер, который издевался над идеей бога и над Мопертюи, мог бы с помощью квантовой меха? ники лишний раз доказать, что «управитель вселенной» и не мудр и не всемогущ, то есть лишен своих определяющих атрибутов и, следовательно, не существует.
Нет, природа ставит свои эксперименты бесцельно: в беспрерывном сплетении взаимодействий — ее жизнь, ее история. А все эти взаимодействия — как бы акты измерений. Всевозможнейших, всесторонних измерений, о каких физики могут только мечтать. Разве существенно, что никто не ведет при этом лабораторного дневника?
В рабочей части любого прибора не происходит ничего сверх того, что имеет место в самой природе. Измерение вправе носить две фабричные марки: «Сделано в лаборатории» и «Совершено в микромире». И потому квантовая механика вовсе не «приборная физика», а настоящая «природная физика». Оставим философские тонкости, а заодно и грубости, которых столько наслушались ученые-атомники со стороны идеалистов и со стороны мнимых материалистов. Поймем, вслед за Максом Планком, что непрошеный гость — квант действия со своей «каморкой неточностей» — появляется на сцене познания только потому, что его уполномочивает на это природа! В лаборатории он — таинственный посол из реального мира, а в реальном мире — обыкновеннейший гражданин.
В измерениях с маркой «Сделано в лабораторий» — неустранимые неточности.
В измерениях с маркой «Совершено в природе» — неустранимые неопределенности.
Не стоит даже говорить, что первые — порождение вторых. Это просто одно и то же! Но лучше не называть закон Гейзенберга «соотношением неточностей»: это возбуждает напрасные сомнения — сомнения в объективной ценности завоеванных квантовой механикой знаний.
Наш известный теоретик академик Владимир Александрович Фок, как и многие другие физики, именно потому и предостерегает от словоупотребления — «соотношение неточностей». А он — один из заслуженных ветеранов квантовой механики и участник многих философских схваток вокруг проблем новой науки. Его предостережение звучит как голос с поля боя. В настаивании на лабораторных неточностях вместо обсуждения неопределенностей в самом микромире ему слышится отголосок давно пройденной поры, когда часто еще думали, что импульс и координата электрона «на самом деле» всегда имеют определенные значения и лишь «по какому-то капризу природы не наблюдаемы одновременно».
Разговор о неточностях в этом рассказе был вынужденным: надо же было воочию убедиться, что неопределенности действительно неустранимы, но что между ними есть закономерная связь. А теперь уже ясно, что природа не капризничает в лабораториях, но обнаруживает там свои законы. Соотношение неопределенностей, или принцип неопределенности Гейзенберга, — один из таких фундаментальных законов природы.
Своим существованием и своей универсальной важностью он обязан коренному свойству материи — ее двойственности: волнообразности элементарных частиц. Тут истоки всего.
Кто-то из англичан придумал даже новое слово для микрокентавров — «уэйвиклс», в переводе на русский — «волницы». А мог бы придумать «частолны». Это были бы синонимы. Для вольного рассказа о квантовой механике такие слова, пожалуй, даже полезны: они доказывают, что новой науке пришлось иметь дело с новыми сущностями, для которых в старом словаре нельзя было найти нужных слов. Но самой квантовой механике ни «волницы», ни «частолны» ничего дать не могли бы: словесными фокусами не решалась поистине драматическая задача — познать в классических понятиях неклассический мир утраченных траекторий. Надо было понять, как волнообразность ограничивает права частиц и как корпускулярность ограничивает права волн. И надо было познать, какою ценой сохраняет свое могущество и в микромире единственно нам доступное представление о движении, как о процессе, протекающем во времени и пространстве. Какою ценой! — вот что надо было открыть.
Читать дальше