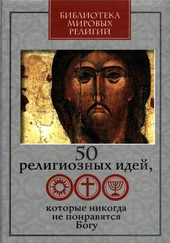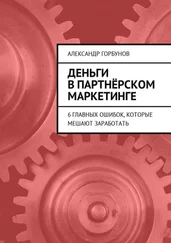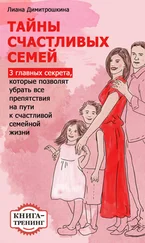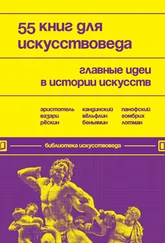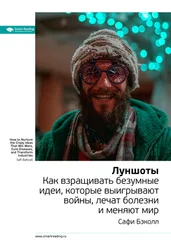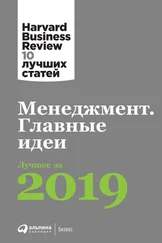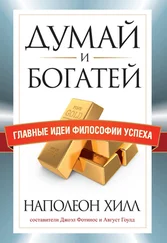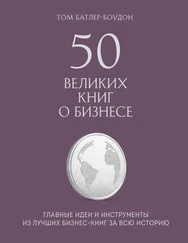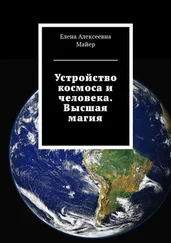Если мы встанем на вероятностную точку зрения, что могут существовать другие возможности с соответствующим уровнем правдоподобия, то сделаем прямой вывод о том, что у нас есть конкретная комбинация шести параметров и что возможна другая реализация из бесконечного числа других возможных комбинаций. Конечно, другие значения космологических параметров будут приводить к возникновению совершенно иных вселенных, обладающих иной геометрией, экзотическим содержанием и альтернативной судьбой. Вероятностный подход освобождает нас от необходимости обращаться к антропному принципу, принимать в расчет требования о какой-то сверхтонкой настройке параметров и объяснять, что означают конкретные численные значения для рассматриваемых величин и нас самих. Мы как бы обходим или забываем вопрос о том, почему наша Вселенная имеет именно такие значения параметров, и поэтому можем не вдаваться в рассуждения о том, что она всего лишь одна из набора возможностей. Каждая из этих возможностей может быть реализована и может порождать бесконечное множество пузырьковых вселенных, представляющих собой компоненты Мультивселенной, плывущие вокруг с другими комбинациями космологических параметров, и каждая из которых начинается с собственного Большого взрыва.
Каким образом мы могли бы проверить гипотезу о существовании таких пузырьковых вселенных? Начнем с того, что конечность скорости света обеспечивает нам доступ лишь в некоторую часть Вселенной, оставляя другие области вне зоны наблюдения и исследования. Через миллиард лет видимый горизонт Вселенной значительно увеличится и большая ее часть станет видимой, поскольку к этому моменту свет дойдет до нас от объектов, которые на миллиард световых лет дальше, чем видимый сегодня край. Если свет не может показать, что находится за пределами нашей Вселенной, и через миллиард лет, то как мы можем представить себе процедуру измерения и наблюдения других вселенных?
В умозрительном, воображаемом мире немыслимо больших масштабов концепции типа Мультивселенной приводит к новым интеллектуальным вызовам, при которых объяснения должны связываться не проверяемыми на практике теориями, а экстраполяцией версий уже признанных теорий. Похоже, мы исчерпали лимит научных объяснений, который ранее практически проявлялся в предсказуемом изобретении все более совершенных инструментов познания. Возможно, сейчас нам требуется смена теоретических концепций и установок — реконцептуализация теории.
При этом может возникнуть некое новое фундаментальное ограничение, связанное, с одной стороны, с тем, что в новых объяснениях будут возникать представления о физических условиях, для которых экспериментальная проверка используемых теорий может оказаться просто невозможной. С другой стороны, стоит вспомнить важный урок из истории самой космологии. Мог ли Николай Коперник в 1543 г., после написания книги «О вращении небесных сфер» (De revolutionibus orbium coelestium), хоть как-то предвидеть, что на основе его идей люди в 1969 г. совершат полет на Луну и вернутся на Землю с образцами грунта для изучения? Более того, мог ли он представить себе, что в 2014 г. запущенный с Земли космический зонд Philae сможет точно «попасть» в комету, обозначаемую именем 67Р/Чурюмова — Герасименко и передать с нее изображения? Вероятно, нет. Коперник не мог себе представить ничего подобного, точно так же как не мог вообразить изобретение и применение спектрографов и камер, способных передавать на Землю прекрасные изображения далеких галактик. Точно так же мы сейчас не можем предвидеть, насколько проверяемой окажется любая из существующих сейчас концепций Мультивселенной, однако нет оснований полагать, что эта ситуация будет продолжаться еще пару сотен лет или меньше. Было бы верхом самонадеянности думать, что кто-то может предсказать развитие науки вообще. Все, что нам остается, — дать волю воображению и попытаться разглядеть, какие блестящие и новые возможности может открыть перед нами наука.
Как мы можем начать решение этого сложного вопроса в рамках привычных, объяснимых терминов физики и математики, которые мы разработали? Частично эти вопросы связаны с проблемой описания того, как выглядела Вселенная до Большого взрыва и до ее превращения в привычную нам Вселенную, которую мы можем наблюдать и изучать. Теория струн — направление физики, которое стремится сделать именно это. Она рассматривает частицы во Вселенной в качестве объектов, сгенерированных в эпоху до Большого взрыва в результата колебаний струн, возникающих подобно тем, что происходят в музыкальных инструментах, Представьте себе скрипку, настроенную с помощью натяжения струн. Изменяя натяжение, можно получить различные музыкальные ноты, рассматриваемые как режимы (моды) возбуждения струны. Разумеется, для возникновения звука любые струны должны быть возбуждены. В описываемой теории струн все существующие и регистрируемые сейчас элементарные частицы концептуально рассматриваются в качестве колебаний таких элементарных струн, существовавших до Большого взрыва. На этом, собственно, и кончается аналогия со скрипкой, так как, в отличие от скрипки, теоретические струны не закреплены на деке какого-либо реального инструмента! Теория струн предлагает математический аппарат, который делает возможными вычисления для эпохи до Большого взрыва. Ученые, работающие на границе космологии и теории струн над проблемой возникновения частиц, с большим интересом смотрят на потенциально наблюдаемые проявления Мультивселенной, возможно видимые как рябь в реликтовом излучении, которая могла бы возникнуть при столкновении нашей Вселенной с другой. Мы надеемся на радикальный сдвиг в понимании описываемых процессов, а для этого необходимо найти регистрируемые и измеряемые доказательства существования признаков Мультивселенной в нашей Вселенной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Приямвада Натараджан Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса] обложка книги](/books/406358/priyamvada-nataradzhan-karta-vselennoj-glavnye-idei-cover.webp)