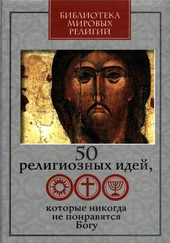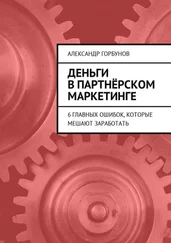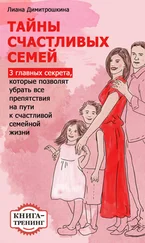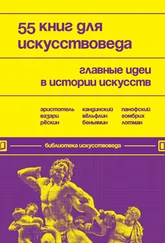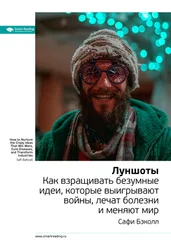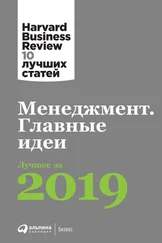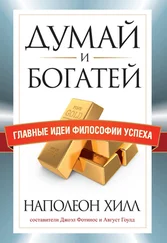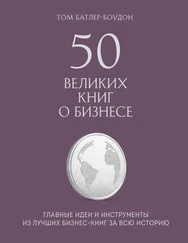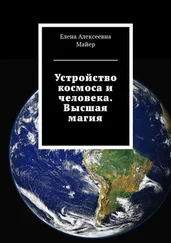Идея невидимых эманаций находила сторонников даже в XIX в. В 1887 г. Альберт Майкельсон и Эдвард Морли провели эксперимент, который низложил подобные теории, но до тех пор многие верили, что существует вездесущая среда — эфир, благодаря которому становится возможным распространение световых волн и гравитации. В контексте корпускулярной теории света Ньютона эфир считался средой, которая способствует перемещению световых частиц от источника излучения. Это убеждение основывалось на аналогии со звуком: было известно, что звуковые волны распространяются за счет сдавливания среды (воздуха), в ходе которого сжимались и разжимались частицы воздуха, передающие вибрации, и последние, наконец, достигали наших барабанных перепонок. Наличие среды, таким образом, рассматривалось как необходимое условие распространения и световых волн — отсюда гипотеза об эфире. Если пространство наполнено эфиром, можно заметить и измерить движение Земли сквозь эфир при вращении вокруг Солнца. Майкельсон и Морли провели эксперимент для измерения такого движения. Они использовали инструмент под названием интерферометр, который в некотором роде сталкивает друг с другом два световых луча, один из которых должен проходить через предполагаемый поток эфира, другой — в перпендикулярном ему направлении. Если бы поток существовал, наблюдалось бы заметное несоответствие между отрезками времени, которые потребовались свету для прохождения двух указанных маршрутов, но Майкельсон и Морли его не обнаружили. Эфира не существовало {11} . Это один из самых знаменитых физических экспериментов «с отрицательным результатом», за который была получена Нобелевская премия. Сегодня нам известно, что свет путешествует, как электромагнитное поле: ему не требуется среда для распространения, и быстрее всего он проходит, по сути, в полном вакууме. Тот же принцип интерференционных волн лежит в основе эксперимента LIGO (описанном в предыдущей главе), хотя упомянутые волны представляют собой гравитационные волны — колебания, возникающие в пространстве и времени при слиянии двух черных дыр. В этом случае длина двух траекторий отличалась бы, так как гравитационные волны изменили бы мерную длину в ходе эксперимента.
Благодаря разработке Эйнштейном ОТО стало ясно, что сила притяжения также не требует участия посторонних веществ — она проявляется в малом масштабе в виде аномалий вокруг обладающих массой объектов в ткани четырехмерного пространственно-временного континуума. В условиях новой и развивающейся интерпретации космоса в 1920-х и 1930-х гг. главным прорывом, как мы видели ранее, стало открытие Хабблом расширяющейся Вселенной, которое стало результатом измерения расстояний до внегалактических туманностей с помощью переменных цефеид — звезд, чьи свойства позволяли найти точные расстояния. Пока Хаббл и остальные измеряли расстояния и скорости галактик, находившихся за пределами нашей собственной Галактики, другие все еще надеялись использовать законы притяжения Ньютона — предполагалось, что они действуют во всем пространстве Вселенной, — для дальнейших шагов и определения массы этих галактик.
Для формирования репутации в научных кругах обычно требуется время, но Хаббл быстро взлетел на вершину. К началу 1940-х гг. он был в зените своей славы в сфере астрономических наблюдений, и его исследования имели непоколебимый авторитет. Между ним и Цвикки шла скрытая борьба, так как оба работали в Калифорнийском технологическом институте и соперничали за одно и то же наблюдательное оборудование. Хаббл всегда получал львиную долю ресурсов и времени работы с телескопом, что, понятное дело, не приносило радости Цвикки. Конечно, еще не были разработаны инструменты и технологии, которые бы позволили производить более точные измерения и поставили под сомнение значение постоянной Хаббла. Итак, ввиду радикальности и абстрактности предположения Цвикки о dunkle materie оно не стало поводом для пересмотра работы Хаббла. На самом деле Цвикки и сам считал свое обоснование темной материи неубедительным и сохранял некоторый скепсис — как и Хаббл в случае с расширяющейся Вселенной. Даже в 1957 г. Цвикки все еще признавал: «Не совсем ясно, как должны быть в итоге истолкованы эти невероятные результаты [наблюдений в созвездии Волосы Вероники]». Было непросто принять всерьез идею еще об одной темной, неуловимой и невидимой сущности — даже для того, кто ее и предложил {12} . Как мы уже видели, сами авторы радикальных научных идей зачастую скрепя сердце примиряются с собственными теориями или их выводами. Далеко идущие последствия таких идей обычно являются причиной подобной борьбы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Приямвада Натараджан Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса] обложка книги](/books/406358/priyamvada-nataradzhan-karta-vselennoj-glavnye-idei-cover.webp)