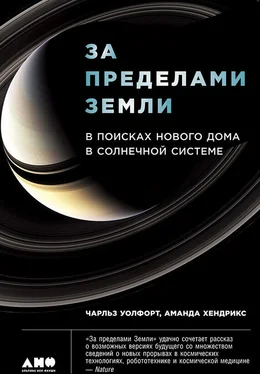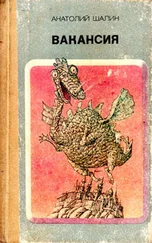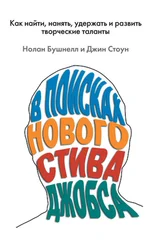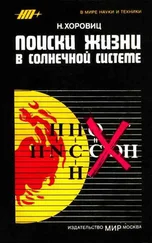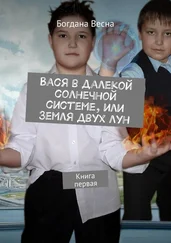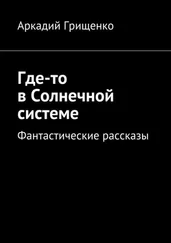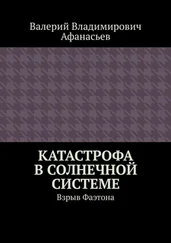Богачи, покидая измученные штормами побережья и удушающе засушливые города, переезжали в огороженные жилища на склонах гор и на бывшие фермы — в места, где они были в относительной безопасности и где могли накапливать ресурсы для защиты от эпидемий и радиации. Но крепости, защищавшие богачей, оказались и их тюрьмами, особенно из-за страха возможного радиоактивного загрязнения воздуха. Хотя эксперты настаивали на том, что воздух и пища не опасны, им никто не верил, как не верили и тогда, когда они расхваливали безопасность детской вакцинации, генетически модифицированных продуктов и ядерной энергии.
С самого начала вопрос о климате стал вопросом о власти. Те, кто обладал властью и контролировал ресурсы, могли приспособиться. Они могли сожалеть о потере экосистем и особых мест — национальных парков, горнолыжных склонов, морских пляжей, — но при своем богатстве они всегда имели возможность переехать, прокормиться и защитить свои семьи. Богатые страны могли позволить себе большую армию для защиты от бедняков.
С ростом беспокойства по поводу терроризма, эпидемий и радиоактивных осадков все больше окон и дверей закрывалось навсегда. Культура в развитых странах уже сместилась в сторону реальности, определяемой киберпространством. Шли десятилетия, и люди все меньше времени проводили вне помещений, каждому поколению все уютнее было перед экраном, чем на воздухе. Ежедневные поездки заключались в перемещении между защищенными гаражами дома и в офисе, торговым центром и школой. Местом для физических упражнений был спортзал с видеоэкранами. Дети играли на закрытых площадках с ручными контроллерами, симулирующими игрушки и мячи, не рискуя пораниться или вдохнуть нефильтрованный воздух. В хороших семьях детей никогда не выпускали на улицу.
Но они бывали в космосе. Каждая семья хотя бы раз была на космическом курорте. Детей все эти пристегивание ремнями в пассажирской ракете и многократные перегрузки на взлете волновали, взрослые же во время обратного отсчета дремали или читали, не обращая внимания на дежурный инструктаж по технике безопасности. Для богачей околоземная орбита стала еще одним местом, в которое они попадали, посидев в металлической трубе, — такими же раньше были Гавайи и Лондон.
Жизнь за пределами Земли в герметичном объеме не особо отличалась от жизни в герметичном жилище на Земле. И, возможно, она была более безопасной вдали от пугающих бедняков.
Настоящее
«Если отбросить частности времени и места, то истории свойственны определенные закономерности», — пишет Геерат Вермей, ученый, на протяжении всей своей жизни изучавший историю эволюции по древним морским ракушкам. Он слепой с детства. Взвешивая историю жизни на протяжении земных эпох, он обнаружил одни и те же закономерности в каждой экосистеме: закономерности конкуренции, доступа к ресурсам и их ограниченности — закономерности, «более благоприятные для одних адаптаций и направлений изменения по сравнению с другими, которые тем самым позволяют предсказывать любую историю, в том числе человеческую».
В экосистемах малых, как капля воды, и больших, как Тихий океан, организмы воспроизводятся, обмениваются энергией, растут и умирают, как бы играя в игру по одинаковым правилам. Чтобы следовать этим правилам, организмам не обязательно их знать. Им даже не обязательно быть биологическими: подобные закономерности возникают в компьютерных «экосистемах» при взаимодействии простых программ. Как математика работает независимо от того, кто производит вычисления, так и соревнование индивидов за конечные ресурсы следует одними и теми же путями, независимо от того, из чего эти индивиды состоят и за что соревнуются.
Зная правила, работающие в этих системах, мы можем прогнозировать то, как соревнование ведет к усилению и развитию способностей организмов в их борьбе за преобладание, и то, как доминирующие виды могут исчерпать конечные ресурсы и вымереть. Мы можем численно выразить, когда в экосистеме (любого размера) наступит переломный момент и она перейдет в новое функциональное состояние с новыми взаимоотношениями и численностью, способными изменить прежние балансы сил и доминирования.
Земля — конечная экосистема. Доминирующий вид — наш собственный — потеснил прочие организмы. История, выведанная чувствительными пальцами Вермея у ракушек возрастом в полмиллиарда лет, повторяется вновь. Представляется, что наш вид — на пути к опустошению своей экосистемы. Хотя человек совершил немалые технологические шаги к повышению эффективности использования энергии и прочих ресурсов, наши аппетиты и численность росли куда быстрее. Мы какое-то время черпали ресурсы из биосферы, поддерживающей нас, и в разнообразных экосистемах наступили моменты перелома, они пришли к состоянию необратимо вырожденного функционирования, малому разнообразию и низкой производительности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу