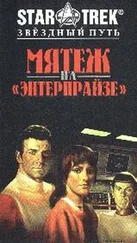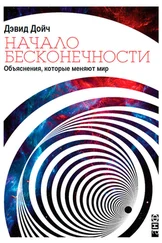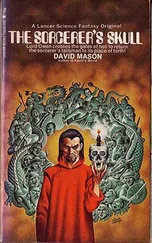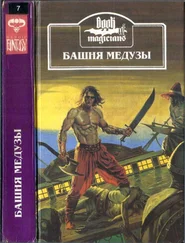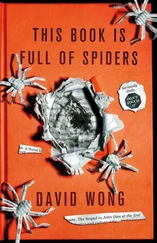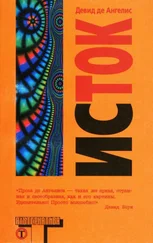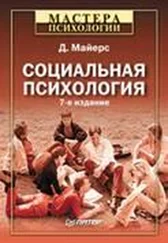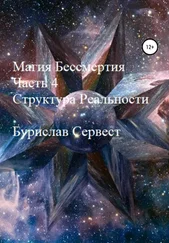Таким образом, мы видим, что если воспринять солипсизм всерьез – если принять, что это истина и что все обоснованные объяснения должны ему в точности соответствовать, – он разрушит сам себя. Чем же солипсизм, если принять его всерьез, отличается от своего разумного соперника реализма? Всего лишь схемой переименования. Солипсизм настаивает на том, чтобы называть объективно различные вещи (например, внешнюю реальность и мой подсознательный разум или самоанализ и научное наблюдение) одинаковыми именами. Но затем ему приходится показывать, чем отличаются эти категории, посредством объяснений на основе чего-то вроде «наружной части себя». Но такие дополнительные объяснения не понадобились бы, если бы он не настаивал на необъяснимом переименовании. Кроме того, солипсизм мог бы постулировать существование еще одного класса процессов: невидимых, необъяснимых процессов, которые дают разуму иллюзию жизни во внешней реальности. Солипсист, уверенный, что не существует ничего, кроме содержимого его разума, также должен верить, что этот разум – явление гораздо более многообразное, чем это обычно считается: он содержит мысли, подобные мыслям других людей, мысли о свойствах планет, мысли, подобные законам физики. Эти мысли реальны. Они развиваются сложным образом (или делают вид, что развиваются), и они достаточно независимы, чтобы удивлять, разочаровывать, просвещать или противоречить тому классу мыслей, которые называют себя «я». Таким образом, солипсистское объяснение мира основано скорее на взаимодействии мыслей, чем на взаимодействии предметов. Но эти мысли реальны и взаимодействуют в соответствии с теми же законами, которые, по словам реалиста, управляют взаимодействием предметов. Таким образом, солипсизм, далекий от того, чтобы стать мировоззрением, разложенным на основные элементы, – это реализм, искаженный и отягощенный дополнительными излишними допущениями, – никчемным багажом, который используют только в целях оправдания.
Этот аргумент дает нам возможность обойтись без солипсизма и всех родственных ему теорий, которые невозможно защитить. Между прочим, на этой основе мы уже отвергли одно из мировоззрений, позитивизм (теорию о том, что бессмысленны все утверждения, кроме тех, которые описывают или предсказывают наблюдения). Как я заметил в главе 1, позитивизм провозглашает свою собственную бессмысленность, и, следовательно, его невозможно стойко защищать.
А потому мы, успокоившись, можем продолжать придерживаться разумного реализма и искать объяснения с помощью научных методов. Однако в свете этого вывода, что мы можем сказать об аргументах, сделавших солипсизм и родственные ему теории на первый взгляд правдоподобными, то есть такими, что невозможно ни доказать их ложность, ни исключить их после проведения эксперимента? Каков статус этих аргументов в настоящий момент? Если мы так и не доказали, что солипсизм ложен, и не исключили его с помощью эксперимента, что же мы сделали!
Этот вопрос содержит в себе допущение относительно того, что теории можно расположить в виде иерархии: «математические» —> «научные» –> «философские», – в зависимости от уменьшения свойственной им надежности. Многие люди воспринимают существование такой иерархии как должное, несмотря на то, что суждения о сравнительной надежности полностью зависят от философских аргументов, аргументов, которые сами себя классифицируют как весьма ненадежные! В действительности, мысль об этой иерархии сродни ошибке редукционистов, о которой я рассказывал в главе 1 (теории о том, что микроскопические законы и явления более фундаментальны, чем исходящие). То же допущение присутствует в индуктивизме, который полагает, что мы можем быть абсолютно уверены в выводах математических доказательств, потому что они дедуктивны, в разумных пределах уверены в научных доказательствах, потому что они «индуктивны» и испытывать вечную нерешительность относительно философских доказательств, которые индуктивизм считает почти делом вкуса.
Но ни одно из этих утверждений не соответствует истине. Объяснения не доказывают средства, с помощью которых они были получены; их доказывает их лучшая, по сравнению с конкурирующими объяснениями, способность решать задачи, которым они адресованы. Именно поэтому таким непреодолимым может быть аргумент, связанный с тем, что теорию невозможно защитить. Предсказание или любое допущение, которое невозможно защитить, тем не менее, может оставаться истинным, но объяснение, которое невозможно защитить, – это не объяснение. Отказ от «простых» объяснений на основе их недоказанности каким-то первичным объяснением неизбежно толкает человека к тщетным поискам первичного источника доказательства. А такового не существует.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу