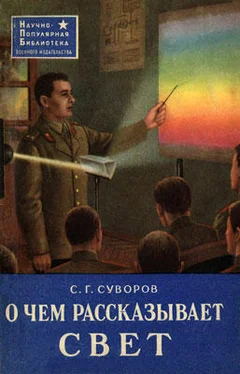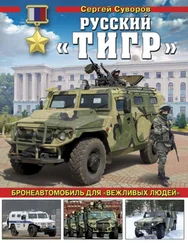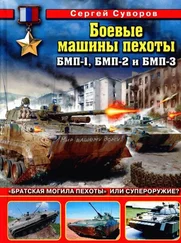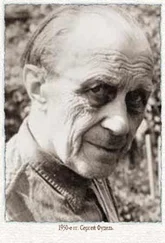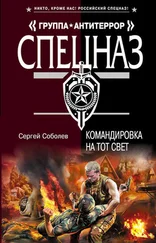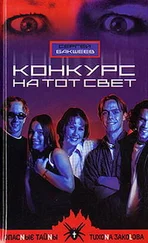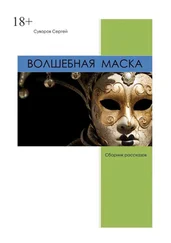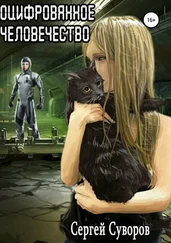Эту закономерность никак нельзя объяснить с помощью волновых представлений о свете.
Более пятнадцати лет прошло после первых опытов Столетова, прежде чем ученые нашли разгадку странных законов, связывающих энергию фотоэлектронов с частотой вызывающего их света.
За это время произошло еще одно важное событие. В 1900 году немецкий физик Макс Планк (1858—1947) исследовал условие, при котором устанавливается равновесие в спектре излучения «абсолютно черного тела». Он пришел к выводу, что этим условием является такое распределение энергии по спектру, при котором она пропорциональна частоте. Получается так, как будто энергия света может перемещаться только определенными порциями (квантами), каждая из которых пропорциональна частоте света.
Другой немецкий физик Альберт Эйнштейн (1879—1955) пошел дальше: он сделал вывод о том, что световой поток состоит из потока частиц с энергией, пропорциональной частоте; эти частицы получили наименование фотонов.Чем больше частота света, тем больше энергия фотона. Следовательно, энергия фотона фиолетового света почти в два раза больше энергии фотона красного света. Эйнштейн показал, что, только приняв представление о фотонной структуре света, можно объяснить странную закономерность фотоэффекта, открытого еще Столетовым.
При этом предположении механизм фотоэффекта представляется так. В металлах имеется много «свободных» (т. е. не связанных с определенными атомами металла) электронов. Когда фотон падающего света ударяется в один из них, он передает электрону всю свою энергию. Если эта энергия достаточно велика, то электрон может вылететь из пластинки. Ясно, что энергия вырванного электрона прямо зависит от энергии выбившего его фотона, т. е. от частоты падающего на пластинку света.
Таким образом, фотоэффект явился одним из первых явлений, указывающих на корпускулярное строение света.
Дальнейшее развитие физики подтвердило справедливость предположения, что свет излучается и поглощается в виде фотонов и что их энергия тем больше, чем больше частота света.
Что такое свет —волны или частицы?
Но что же в таком случае представляет собой свет — волны или частицы?
После открытия фотоэффекта этот вопрос казался окончательно запутанным и противоречивым. В прежние времена споры о природе света были ясными. Ньютон и его последователи считали, что свет — это корпускулы, т. е. частицы, а не волны. Иначе как же объяснить прямолинейность распространения света? Ломоносов, Эйлер, Юнг, Френель, а за ними все физики середины XIX века пришли к выводу, что свет — это волны, а не корпускулы. Физики нашли способ объяснить, исходя из волновойточки зрения, почему свет распространяется прямолинейно, и даже показали, что это не всегда так бывает; например, в явлениях дифракции свет огибает препятствия, как это делает и звук, только препятствия должны быть для этого очень малы, сравнимы с длиной волны света.
Словом, в прежние времена волновая точка зрения исключала корпускулярную, и наоборот. Казалось разумным отстаивать либо одну, либо другую из них. Но никто не отстаивал обе точки зрения одновременно.
Теперь дело обстояло иначе. Было ясно, что свет обладает волновыми свойствами. Об этом говорят опыты по интерференции и по дифракции света. Но также ясно и то, что свет обладает корпускулярными свойствами. Об этом говорят опыты по фотоэффекту. И те и другие опыты совершенно достоверны и неопровержимы. И выводы из тех и других опытов совершенно определенны: из первых следует, что свет обладает волновыми свойствами, а из вторых—что свет обладает корпускулярными свойствами.
Выходит, что все прежние представления о свете были односторонними;они подмечали только ту или иную его сторону и не видели все свойства света в их единстве.Ныне, в итоге многовекового развития физики, в результате тщательной опытной проверки, мы вправе сделать заключение: свет, т. е. электромагнитные излучения, является одной из форм материи, обладающей одновременно и свойствами частиц и свойствами волн.
Французский физик Луи де-Бройль (родился в 1892 году) высказал предположение, что это положение справедливо не только для одной формы материи — электромагнитных излучений, но и для другой — вещества, и можно ожидать, что поток микрочастиц вещества будет обладать волновыми свойствами. В 1927 году американские физики Дэвисон и Джермер проверили это предположение. Они направили поток электронов на кристаллическую решетку и получили на экране типично волновую интерференционную картину. Так было установлено, что поток микрочастиц обладает не только корпускулярными, но и волновыми свойствами. Если в случае света представления развивались от волновых к корпускулярным, то в случае вещества наоборот — от корпускулярных к волновым.
Читать дальше