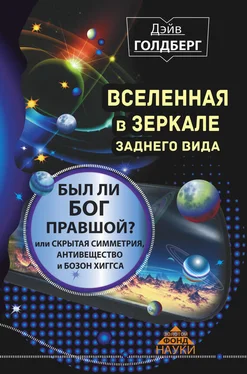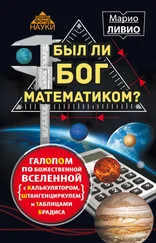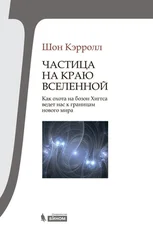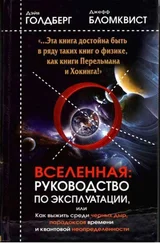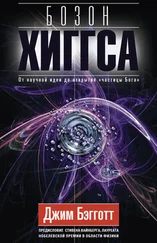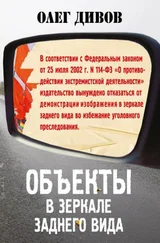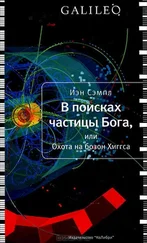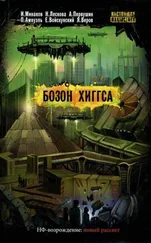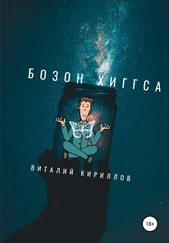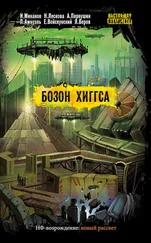[Низкая энтропия в прошлом] … предположение вполне разумное, поскольку оно дает нам возможность объяснить факты, данные нашим опытом, и не стоит ожидать, что кто-то сумеет вывести этот опыт из чего-то более фундаментального.
В этом-то и беда: когда говоришь о первоначальных условиях, невозможно вывести никакие законы, поскольку, насколько мы можем судить, начало времен было ровным счетом одно. И хотя Т -симметрия требует, чтобы законы вселенной на микроскопическом уровне были обратимы во времени, нужно, чтобы на закате было всего одно-единственное, уникальное направление к рассвету. Неочевидная симметрия времени ведет нас обратно к началу единственной и неповторимой дорогой.
Глава третья. Космологический принцип
Из которой мы узнаем, почему ночью темно
Надеюсь, мне удалось донести до вас два обстоятельства. Первое — тупые вопросы, как правило, гораздо умнее, чем кажется на первый взгляд. Второе — очень важно помнить, что мы существа донельзя заурядные. Иначе легко подойти к опасной грани солипсизма. Откуда ты знаешь, что не семи пядей во лбу, если вся вселенная устроена так, чтобы ты сумел в ней зародиться?
Это совсем не (только) шутка. Вообразить себя центром мироздания, и в буквальном, и в переносном смысле легко, очень легко. Выйдите за дверь и поглядите в небо. Солнце, планеты, звезды — все это, судя по тому, что мы видим, вращается вокруг нас. То, чего ждешь от Вселенной, во многом зависит от ощущения собственной важности.
Подобные предположения так глубоко укоренены в нас, что, чего доброго, можно услышать умный вопрос и даже не понять, насколько он умный. Вот, например, если я спрошу первого встречного: «Почему ночью темно?», первый встречный, скорее всего, рассердится и ответит что-нибудь вроде «Да потому что солнце с другой стороны земли, дурачина!» Так вот, это, во‑первых, грубо, во‑вторых, неверно. Почему ночью темно, далеко не так очевидно, чем вам кажется. А почему вопрос на самом деле очень глубокий и как на него нужно отвечать, подскажет симметрия.
Для древних в ночной темноте не было ничего непонятного. А все потому, что они совершенно ошибочно представляли себе устройство мироздания. Как я уже упоминал, особенно крупно ошибался во всем, что касается физического мира, Аристотель: и в природе пяти стихий [37] Земля, вода, воздух, огонь и эфир. Из эфира, по мнению Аристотеля, состоят звезды и небесные сферы.
, в устройстве гравитации, а хуже всего — в том, что Солнце вращается вокруг Земли. Давайте лучше скажем, что он внес куда больший вклад в развитие этических категорий.
В каком-то смысле его ошибки были понятны и естественны. В IV веке до нашей эры физика как область науки была еще так неразвита, что Аристотелю пришлось даже придумать ей название — это он ввел в обращение слово «физика» в привычном нам смысле. И к тому же все, что писал Аристотель о материальном мире, интуитивно кажется правильным.
Ну, например, тяжелые предметы и правда падают обычно быстрее легких, но это просто потому, что для них сопротивление воздуха относительно менее важно. Когда смотришь на Солнце и звезды, действительно кажется, будто они вращаются вокруг Земли.
Солнце и Земля вращаются по орбитам, центр которых находится примерно в 450 километрах от центра Солнца. В сущности, Солнце, можно сказать, колеблется вокруг этой точки, что часто ускользает от внимания. Солнце, Земля и вся остальная Солнечная система вращаются вокруг центра галактики Млечный Путь, который находится приблизительно в 27 000 световых лет от нас, а вся галактика летает вокруг Сверхскопления Девы — гигантской области, поперечный размер которой превышает 100 миллионов световых лет.
То есть Аристотель был интуитивно прав в одном: вселенной правят скрытые симметрии. В своем трактате «Физика» он пишет:
Вполне основательно выходит, что именно круговое движение едино и непрерывно, а не движение по прямой, так как на прямой определены и начало, и конец, и середина и она все заключает в себе, так что есть [место], откуда начинается движение и где оно кончится (ведь в конечных пунктах, откуда и куда [идет движение], все покоится); в круговом же движении ничто не определено, ибо почему та или иная [точка] будет в большей степени границей на [круговой] линии, чем другая? Ведь каждая [точка) одинаково и начало, и середина и конец, так что [на окружности] всегда и никогда находишься в начале и в конце. (Пер. В. Карпова)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу