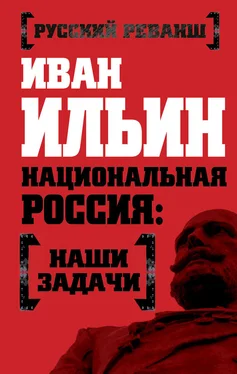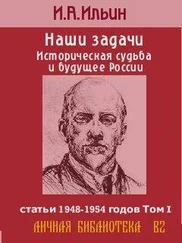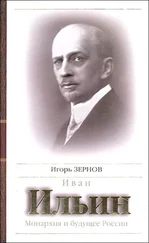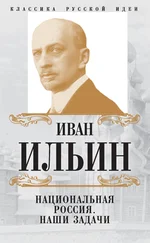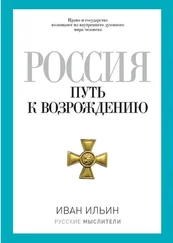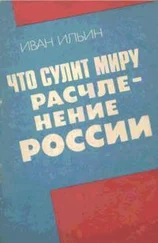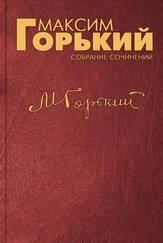Но за последние десятилетия уверенное и властное самочувствие российской правящей Династии как будто бы поколебалось. Быть может, революционный напор ослабил у нее веру в свое призвание, поколебал в ней волю к власти и веру в силу царского звания; как будто бы ослабело чувство, что Престол обязывает, что Престол и верность ему суть начала национально спасительные и что каждый член Династии может стать однажды органом этого спасения и должен готовить себя к этому судьбоносному часу, спасая свою жизнь не из робости, а в уверенности, что законное преемство трона должно быть во что бы то ни стало обеспечено.
Вот откуда это историческое событие: Династия в лице двух Государей не стала напрягать энергию своей воли и власти, отошла от престола и решила не бороться за него. Она выбрала путь непротивления и, страшно сказать, пошла на смерть для того, чтобы не вызывать гражданской войны, которую пришлось вести одному народу без Царя и не за Царя…
Когда созерцаешь эту живую трагедию нашей Династии, то сердце останавливается и говорить о ней становится трудно. Только молча, про себя, вспоминаешь слова Писания: «яко овча на заклание ведеся и яко агнец непорочен прямо стригущаго его безгласен»…
Все это есть не осуждение и не обвинение; но лишь признание юридической, исторической и религиозной правды. Народ был освобожден от присяги и предоставлен на волю своих соблазнителей. В открытую дверь хлынул поток окаяннейшего в истории напористого соблазна и те, которые вливали этот соблазн, желали власти над Россией во что бы то ни стало. Они готовы были проиграть великую войну, править террором, ограбить всех и истребить правящую Династию; не за какую-либо «вину», а для того, чтобы погасить в стране окончательно всякое монархическое правосознание.
Грядущая история покажет, удалось им это или нет.
А на нас, на поколении русских людей, скорбью и мукой переживших эту революцию, лежит обязанность спросить себя, в чем же состоит сущность здорового, крепкого и глубокого монархического правосознания и как нам возродить его в России.
Мы уже не раз ставили этот вопрос, но ни один ответ свой мы не считали исчерпывающим и всесторонним. А между тем русскому человеку, если в нем живут национально-патриотические чувства, естественно возвращаться к этому вопросу и добиваться исчерпывающего ответа.
Одна из основных формул этого ответа должна быть выражена так: русский народ имел Царя, но разучился его иметь. Был Государь, было бесчисленное множество подданных; но отношение подданных к их Государю было решительно не на высоте. За последние десятилетия русский народ расшатал свое монархическое правосознание и растерял свою готовность жить, служить, бороться и умирать так, как это подобает убежденному монархисту.
Знаем, что это относится далеко не ко всем русским людям. Помним и никогда не забудем те доблестные воинские подвиги, которые были совершены русской гвардией, армией и флотом в борьбе со смутой 1905 года и со вторгающимся в Россию неприятелем – от рядового до главнокомандующего.
Однако «умение иметь Царя» знает не только форму воинского подвига, но еще и форму гражданской доблести, государственного разумения, политического такта и политической сплоченности. И вот в этом отношении русский народ оказался в роковые часы истории не на высоте. Знаем, что и это относится не ко всем русским людям. И на верхах, и в народных низах были люди искренней преданности и служения. Не будем называть имен; укажем лишь на традицию А. Д. Самарина и П. А. Столыпина и вспомним целые кадры русских сенаторов, дипломатов и членов Государственного Совета. Служение их и государственные заслуги – незабываемы.
Но единой и организованной монархической партии, которая стояла бы на страже трона и умела бы помогать монарху – не было. А те, которые пытались выдавать себя за такую «партию», вели линию не государственную, а групповую и не понимали своих исторических и государственных заданий.
Спросим нашу историческую память – где была и что делала эта «монархическая партия» в трудные минуты колебания земли и трона, в мучительные, а потом трагические часы жизни Государя?
Когда вкрадчивый и с виду добродушный лукавец Сухомлинов, назначенный военным министром в 1909 году и чуть-чуть не назначенный Главнокомандующим Русской Армией в 1914 году, пытается несколько лет подряд уверить Государя, ссылаясь на телеграммы приамурского генерал-губернатора Унтербергера, будто война грозит совсем не с Германией, а с Японией; когда он вслед затем, к ужасу Столыпина, пытается упразднить привисленские крепости (Варшаву, Новогеоргиевск, Ивангород); когда он затем начинает демонстративно вымогать у министерства финансов сотни миллионов на якобы вооружение русской армии, с тем, чтобы не использовать эти кредиты (к началу войны 1914 г. им было не использовано 250 миллионов рублей!) и оставить русскую армию без подготовки и без снарядов, – что сделали эти «монархисты», чтобы открыть глаза доверчивому монарху и спасти армию? Ничего! – Когда тень мнимого «богомольца» появилась у трона, распространяя гибельный яд распутства, хвастовства, сплетен, клеветы и коррупции, – что сделала эта «партия» для того, чтобы грудью прикрыть чистоту трона и оберечь его всенародный ореол? Когда и где они дерзнули, спасая Россию, заслужить себе немилость Государя открытою правдою, так, как это делали в свое время Филип Митрополит и князь Яков Долгорукий, а впоследствии Столыпин, Коковцов, Джунковский, Самарин, Тютчев и другие? Ибо позднейшее деяние В.М. Пуришкевича было не партийным, а личным… Нет, они не дерзнули произнести открыто достойную и спасающую правду, но держали себя, как «незнайки» и «хороняки»…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу