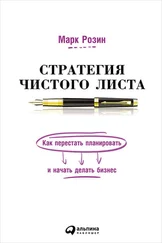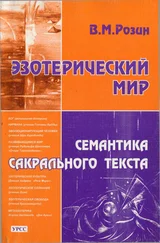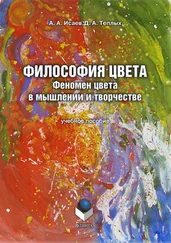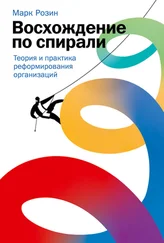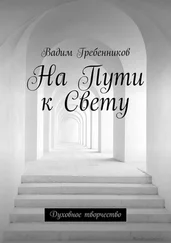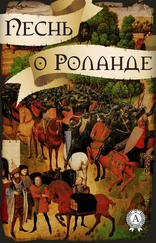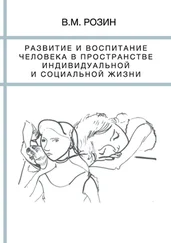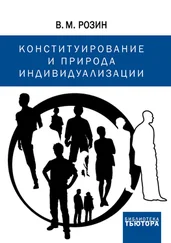Поскольку я вышел из методологической школы (а именно из Московского методологического кружка; аббревиатура ММК), для меня мышление выступает как одна из высших ценностей. Поэтому вполне естественно мое стремление к изучению мышления. Но помимо чисто познавательного отношения мною движет и практический интерес. Как методолог я хочу способствовать повышению культуры мышления. Не меньшее значение имеют и проблемы по поводу мышления, которые необходимо разрешить. Речь пойдет лишь об основных проблемах.
В качестве первой можно назвать вопрос о возможности в наше время, подобно тому как это было в Средние века или в XVII–XVIII вв., установить для мышления относительную единую систему норм и других регулятивных установлений. Альтернативная точка зрения состоит в том, что это невозможно и к этому не нужно стремиться, напротив, право каждого мыслить по-своему. Идеологи постмодерна утверждают, что даже стремление к согласию или консенсусу нельзя реализовать и поэтому выставлять как регулирующий принцип. Они уверены, что мышление само себя конституирует в форме множества локальных коммуникаций и дискурсов. Как ни странно, возможно, определенный повод к подобным воззрениям дал сам Кант. «Во всех своих начинаниях, – писал он, – разум должен подвергать себя критике и никакими запретами не может нарушать свободы, не нанося вреда самому себе и не навлекая на себя нехороших подозрений… К этой свободе относится также и свобода высказывать свои мысли и сомнения, которых не можешь разрешить самостоятельно, для публичного обсуждения и не подвергаться за это обвинениям как беспокойный и опасный гражданин. Эта свобода вытекает уже из коренных прав человеческого разума, не признающего никакого судьи, кроме самого общечеловеческого разума, в котором всякий имеет голос; и так как от этого разума зависит всякое улучшение, какое возможно в нашем состоянии, то это право священно, и никто не смеет ограничивать его» [49, с. 617, 626]. Все это прекрасно, но Кант понимал разум как одно целое, как высшую инстанцию по отношению к мышлению, сегодня же идея единого совершенного нормативного разума проблематична или вообще может вызвать только усмешку.
Но как в этом случае быть с проблемой согласованного поведения людей, с их стремлением избегать конфликтов и создать мир для совместной жизни на планете? Если принимаются подобные благородные идеалы и задачи, то как в таком случае можно обойтись без целостного мышления, обслуживающего согласованную практику человечества? Или все же можно?
Другой аспект той же проблемы – проблема единой реальности. Если невозможно единое мышление, то, вероятно, и невозможно признать единую реальность. Уже Кант на более узком материале – антиномий разума – обсуждал эту проблему. Вылетая на крыльях рассудка за пределы возможного опыта, разум, по мнению Канта, впадает в антиномии. Мы не можем, писал Кант, «улаживать спор разума, когда, например, теист утверждает, что высшая сущность есть, а атеист – что высшей сущности нет, или если в психологии одни утверждают, что все мыслящее обладает абсолютным постоянным единством, следовательно, отличается от всякого преходящего материального единства, а другие утверждают, наоборот, что душа не есть нематериальное единство и не может быть изъята из сферы бренного. Действительно, в этих случаях предмет обсуждения свободен от всего постороннего, противоречащего его природе, и рассудок имеет здесь дело только с вещами в себе, а не с явлениями… В самом деле, как могут два человека вести спор о вещи, реальность которой ни один из них не может показать в действительном или хотя бы только в возможном опыте, о вещи, которую они вынашивают в себе лишь как идею, стараясь добыть из нее нечто большее, чем идея, а именно действительность самого предмета» [49, с. 618–619, 625]. Однако сегодня как раз идеи часто объявляются законодателями реальности, а поскольку идей великое множество, впрочем, как и разных опытов жизни, реальность распалась на множество самостоятельных миров.
Следующая проблема касается природы мышления. Аристотель и вслед за ним ряд других философов (в Новое время, например, Декарт, Локк, Кант) считали мышление константным образованием. Они не могли, например, представить, что мышление развивается. Неизменная природа мышления, с их точки зрения, определяла и соответствующую константную структуру человеческого познания и связанных с ними наук. Например, Аристотель различал в душе ощущения, восприятия и мышление и ставил первые две способности в соответствие с чувственным, а третью – с логическим уровнями познания. Кант, различая эмпирическое созерцание, рассудок и разум, по сути, соотносил их соответственно с познанием эмпирическим, теоретическим (в науке) и философским; при этом для всех трех слоев познания, утверждал он, характерно действие априорных представлений (в эмпирическом познании главным является созерцание предметов опыта, в науке – мышление с помощью понятий, в философии – критика и рефлексия).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу