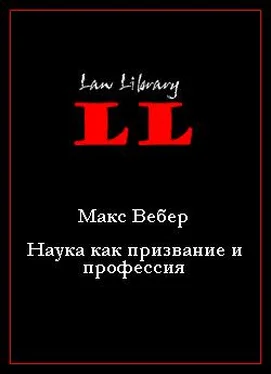Я спрашиваю только об одном: как может, с одной стороны, верующий католик, с другой – масон, слушая лекцию о формах церкви и государства, как могут они когда-либо сойтись в своих оценках данных вещей? Это исключено. И тем не менее у академического преподавателя должно быть желание принести пользу своими знаниями и своим методом и тому и другому. Такое требование он должен поставить перед собой. Вы справедливо возразите: верующий католик никогда не примет того понимания фактов, связанных с происхождением христианства, которое ему предложит преподаватель, свободный от его догматических предпосылок. Конечно! Однако отличие науки от веры заключается в следующем: «беспредпосылочная» в смысле свободы от всяких религиозных стеснений наука в действительности не признает «чуда» и «откровения», в противном случае она не была бы верна своим собственным «предпосылкам». Верующий признает и чудо и откровение. И такая «беспредпосылочная» наука требует от него только одного, не менее, но и не более: признать, что, если ход событий объяснять без допущения сверхъестественного вмешательства, исключаемого эмпирическим объяснением в качестве причинного момента, данный ход событий должен быть объяснен именно так, как это стремится сделать наука. Но это он может признать, не изменяя своей вере.
Однако имеют ли научные достижения какой-нибудь смысл для того, кому факты как таковые безразличны, а важна только практическая позиция? Пожалуй, все же имеют.
Для начала хотя бы такой аргумент. Если преподаватель способный, то его первая задача состоит в том, чтобы научить своих учеников признавать неудобные факты, я имею в виду такие, которые неудобны с точки зрения их партийной позиции; а для всякой партийной позиции, в том числе и моей, существуют такие крайне неудобные факты. Я думаю, в этом случае академический преподаватель заставит своих слушателей привыкнуть к тому, что он совершает нечто большее, чем только интеллектуальный акт, – я позволил бы себе быть нескромным и употребить здесь выражение «нравственный акт», хотя последнее, пожалуй, может прозвучать слишком патетически для такого простого и само собой разумеющегося дела.
До сих пор я говорил только о практических основаниях, в силу которых следует избегать навязывания личной позиции. Но это еще не все. Невозможность «научного» оправдания практической позиции – кроме того случая, когда обсуждаются средства достижения заранее намеченной цели, – вытекает из более глубоких оснований. Стремление к такому оправданию принципиально лишено смысла, потому что различные ценностные порядки мира находятся в непримиримой борьбе. Старик Милль – его философию в целом я не похвалю, но здесь он был прав – как-то сказал: если исходить из чистого опыта, то придешь к политеизму. Сказано напрямик и звучит парадоксально, но это правда. Сегодня мы хорошо знаем, что священное может не быть прекрасным, более того, оно священно именно потому и постольку, поскольку не прекрасно. Мы найдем тому примеры в 53-й главе Исайи и в 21-м псалме. [5]Мы знаем также, что это прекрасное может не быть добрым и даже, что оно прекрасно именно потому, что не добро; это нам известно со времен Ницше, а еще ранее вы найдете подобное в «Цветах зла» – так Бодлер назвал томик своих стихов. И уже ходячей мудростью является то, что истинное может не быть прекрасным и что нечто истинно лишь постольку, поскольку оно не прекрасно, не священно и не добро.
Но это самые элементарные случаи борьбы богов, несовместимости ценностей. Как представляют себе возможность «научного» выбора между ценностью французской и немецкой культур – этого я не знаю. Тут же спор разных богов и демонов: точно так же, как эллин приносил жертву Афродите, затем Аполлону и прежде всего каждому из богов своего города, так это происходит и по сей день, только без одеяний и волшебства данного мифического образа действий, внутренне, однако, исполненного истинной пластики. А этими богами и их борьбой правит судьба, но вовсе не «наука». Следует только понять, что представляет собой божественное для одного и что – для другого или как оно выступает в одном и в другом порядке. Но тем самым кончается обсуждение профессором предмета в аудитории – последнее, разумеется, не означает, что вместе с тем кончается сама эта серьезнейшая жизненная проблема. Однако здесь слово уже не за университетскими кафедрами, а за иными силами. Какой человек отважится «научно опровергнуть» этику Нагорной проповеди, например заповедь «непротивления злу» или притчу о человеке, подставляющем и левую и правую щеку для удара? И тем не менее ясно, что здесь, если взглянуть на это с мирской точки зрения, проповедуется этика, требующая отказа от чувства собственного достоинства. Нужно выбирать между религиозным достоинством, которое дает эта этика, и мужским достоинством, этика которого проповедует нечто совсем иное: «Противься злу, иначе ты будешь нести свою долю ответственности, если оно победит». В зависимости от конечной установки индивида одна, из этих этических позиций исходит от дьявола, другая – от Бога, и индивид должен решить, кто для него Бог и кто дьявол. И так обстоит дело со всеми сферами жизни.
Читать дальше