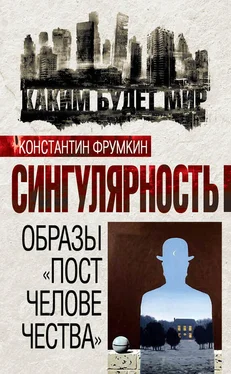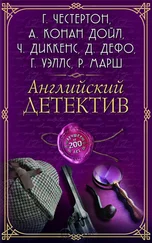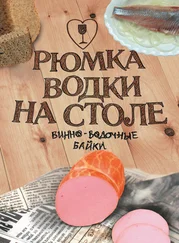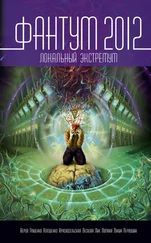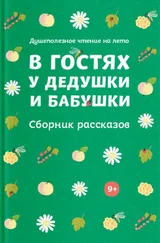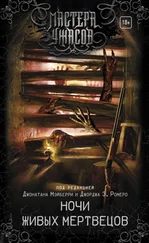Это закономерно, поскольку «этический империализм» возникает в условиях, когда распадается социальная база традиционной морали – небольшая, в идеале сельская община. Мораль как система взаимных межчеловеческих обязательств «хорошо себя чувствует» в сравнительно небольших, слабо меняющихся по составу человеческих коллективах, где соседи живут более или менее на глазах друг у друга и где активны личностные отношения между людьми. По мере того, как община заменяется городской цивилизацией с атомизированными гражданами, живые межличные отношения заменяются институционализированными, чахнет и мораль в обычном смысле этого слова – но зато расцветает активно институционализируемая и формализуемая этика.
Можно поразмышлять о возникающих в связи с этим опасностях – в конце концов, тяжелый опыт ХХ века, опыт нацизма и коммунизма отчасти показали и то, что институты сами по себе могут вырождаться, или не получать желаемого качества если не опираются на ценности, представления и убеждения отдельных людей – на этом, в частности, настаивал известный экономист-институционалист Дуглас Норт. [48]
Но именно для предотвращения этих опасностей в современном западном обществе пытаются разрабатывать институциональные проблеме в форме проблем этических.
Когда современная культура излагает проблематику деятельности крупных корпораций или институтов на языке этики, она фактически проецирует понятийный аппарат и ассоциативные связи, выработанные для описания межличностных отношений в небольших коллективах на куда более масштабные, институционализированные, безличные отношения. Необходимость такого проецирования возникает после столкновения индивидуального человеческого сознания со сложными умозрительными проблемами, к которым человек пытается выработать живое, личностное отношение. Категории «макроморали» возникают из экспансии языка микроморали на несвойственные ей области, и расплатой за это конечно может быть и излишняя антропоморфизация социальных отношений, и неточность выражений, и избыточная эмоциональность общественных дискуссий.
Пытаясь регулировать деятельность институтов, этика, конечно, несет на себе черты своего происхождения на микроуровне, и особенно явно это видно на ранних попытках создания макроморали – например, толстовстве. Социальное учение Льва Толстого можно было бы считать именно попыткой разработки институциональной этики (мезо– и макроморали), то есть учения о регулировании всех сторон общественной жизни на базе этических принципов. Такое грубое замыкание микро– и макроуровня привело к тому, что Толстой просто отрицал многие социальные явления, не имеющие отношения к жизни «простого человека» – искусство вообще «упразднялось», а наука должна была перейти от вопросов космических к бытовым. Впрочем, современная макроэтика ушла от Толстого не очень далеко, требуя от экономики борьбы с голодом и неравенством.
Но для этого есть свои резоны. Л. В. Коновалова считает, что возникновение прикладной этики объясняется процессом гуманизации человеческого общества и пониманием ценностей индивидуально-личностного характера. [49]Получается, что поскольку ценности низового, индивидуального уровня приобретают больший вес и значимость, их проецируют на более высокие, коллективные уровни.
В этих новых условиях и этика и даже мораль начинают активно использоваться в самой разной публичной пропаганде – и в пользу экологии, и ради помощи беженцам и по иным публичным вопросам. Традиционная мораль не забывается, наоборот – она «гальванизируется», используясь в качестве пропагандистского ресурса – пиетет, испытываемый людьми перед традиционными моральными ценностями активно эксплуатируется любой идеологией. Например, традиции аскетической морали сегодня актуализированы во имя критики потребительского общества – но опять же, не ради самой критики, а для того, чтобы идея самоограничения потребления помогла бы решению экологических задач. Вообще сфера экологии часто оказывается местом реванша традиционных этических концепций – поскольку именно экологическую проблематику можно истолковать как демонстрацию краха и «безблагодатности» современной, цивилизации. Природа мистически одухотворяется именно для того, чтобы придать ей статус личности, по отношению к которой становятся возможными этические обязательства: мистика оказывается инструментом, с помощью которой экологию сближают с этикой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу