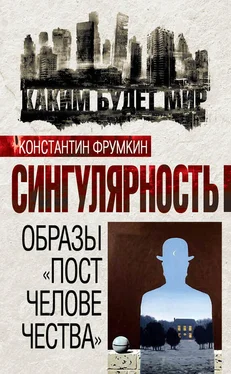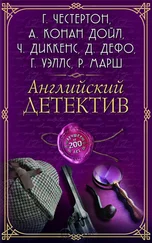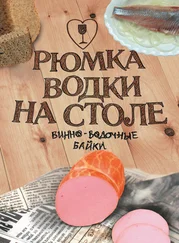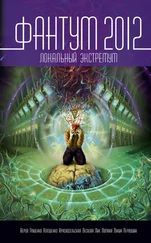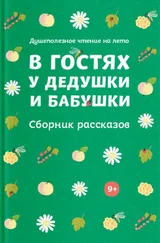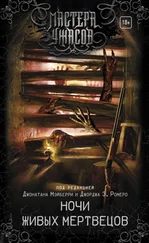Действительно, казалось бы, раз кино (а равно и телевидение) задействует одновременно зрение и слух воспринимающего субъекта, это дает ему более 95 % информации, следовательно – 95 % иллюзии реального восприятия, и остальными несколькими процентами можно с легкостью пренебречь. Однако такая «процентная» логика является как с психологической, так и физиологической точек зрения достаточно ущербной, и вот почему. Дело в том, что информацию об окружающем мире человек действительно в значительной степени получает через зрительный и слуховой каналы восприятия, но в общем объеме информации, с которой имеет дело, которую перерабатывает, и на которую откликается наш мозг, эта «внешняя» информация как минимум уравновешивается, а иногда и полностью вытесняется из круга внимания информацией о внутреннем состоянии , которая как раз и поступает по перечисленным выше «дополнительным» каналам чувственного восприятия. Думаю, никого не нужно убеждать в том, насколько мощнее действуют на нас, например, неожиданная резкая боль или сильное сексуальное возбуждение во время полового акта по сравнению с самым красочным изображением, которое в тот же момент поступает к нам по зрительному каналу, скажем, с экрана телевизора. Таким образом, нельзя не признать, что роль аудиовизуальной компоненты в искусстве и культуре наших дней является совершенно незаслуженно переоцененной, и в дальнейшем, видимо, следует ожидать непременного «реванша» подавленных «внутренних» модальностей и соответствующего выравнивания баланса в сторону все большего их задействования в различных видах искусства.
Замечание второе: Об активных и пассивных участниках «акта искусства» . Это замечание, как мне представляется, почти автоматически следует из предыдущего, поскольку модель «активный творец – отчужденный (объективированный) предмет искусства – пассивно воспринимающий зритель (слушатель, читатель, ценитель – нужное подчеркнуть)», характерная для большинства «традиционных» видов западного искусства, считающихся сегодня «высоким» или «настоящим» искусством, как раз и подразумевает, что внутренние модальности воспринимающего субъекта никак не задействуются в процессе «восприятия искусства», и все воздействия поступают по «внешним» модальностям. Художник пишет картину – зритель ее смотрит ; композитор сочиняет музыку, исполнитель ее исполняет – слушатель слушает ; писатель пишет книгу – читатель ее читает ; режиссер ставит пьесу, актеры ее играют – зрители опять же смотрят и слушают, сидя в зале и жуя покорн. Восприятие искусства в такой модели по определению пассивно, причем сразу с двух точек зрения. Во-первых, как уже отмечалось, читатель, зритель и слушатель не испытывают непосредственно ни боли, ни тепла, ни сексуальных, ни каких-либо других внутренних ощущений в процессе «восприятия искусства». (И если вы скажете, что вид Мерилин Монро в задуваемой ветром юбке – неоспоримый источник сексуальных ощущений, я буду вынужден возразить вам, что это ни в коей мере несравнимо с непосредственными ощущениями от сексуального акта, который совершается вами (или над вами:)) в процессе синкретической первобытной оргии-мистерии.) Во-вторых, здесь отсутствует обратная связь . Участник первобытных синкретических действ был именно участником – то есть был активен: танцевал, пел, топал, хлопал, протыкал иглами себя и соседей, прыгал сквозь огонь и толкал в огонь других… Иными словами, не только мог в любой момент вмешаться в ход действия, но просто постоянно участвовал в нем. Современный ценитель искусства лишен такой возможности. В опере слушатели не подпевают оперным примам. На балете – не танцуют вместе с балеринами. В кино – не дерутся вместе с героями боевика. О том, как в 1919 году неграмотный красноармеец «вдарил из винта» по исполнителю отрицательной роли Яго в театральной инсценировке шекспировского «Отелло», до сих пор рассказывают как о забавном и жутковатом курьезе. Никакого интерактива , то есть действительного (и действенного) отклика зрителя, его взаимодействия и соучастия классические виды искусства не предполагают. Мы даже перестали забрасывать негодных исполнителей тухлыми яйцами и помидорами. В крайнем случае, допускается их захлопать. Разве это обратная связь? Разве можно говорить о включенности зрителя (слушателя, читателя) в действие? Увы.
Любопытно, что массовая культура в XX веке продвинулась в направлении задействования «внутренних» чувств и обратной связи гораздо дальше культуры «высокой». С одной стороны, танцы, вопли, распивание напитков, ритмичное покачивание, размахивание всевозможной атрибутикой – норма поведения фанатов на концертах рок-звезд (которые без всего этого потеряли бы для тех же фанатов половину своей прелести). Можно, конечно, говорить о том, что фанаты ведут себя «бескультурно». А можно и оценить тот факт, что таким образом они включаются в действо и используют на полную катушку свои дополнительные модальности. С другой стороны, не только «творцы» массового искусства управляют «массой», но и «масса» управляет упомянутыми «творцами», причем весьма эффективно. Поскольку масскульт не стыдится своей коммерческой природы, то и обратная связь осуществляется через понятные и прозрачные рыночные механизмы: публика покупает или не покупает [диски, билеты, etc.]; песни, фильмы и передачи либо имеют сборы и рейтинги, либо не имеют их и вследствие этого становятся «неуспешными», закрываются, исключаются из ротации, забываются…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу