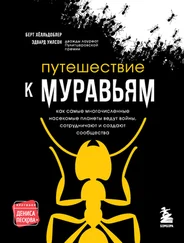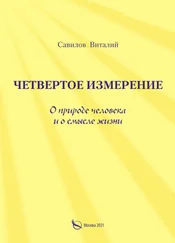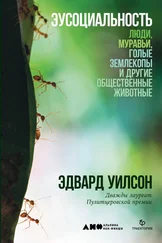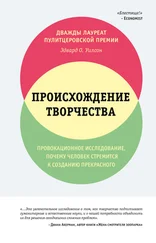А сейчас позвольте мне в самой сжатой форме изложить основной тезис второй дилеммы, в то время как аргументы в его поддержку я отложу до следующей главы: врожденные цензоры и мотиваторы, существующие в мозгу, глубоко и неосознанно влияют на наши этические установки. Таким образом, наша мораль развивалась как инстинкт. Если это представление правильно, то наука вскоре начнет исследовать самое происхождение и смысл человеческих ценностей, на которых основываются все этические установки и в значительной степени политические приемы {7} .
Сами философы, большинству из которых недостает эволюционной перспективы, не уделяли особого внимания этой проблеме. Они исследуют принципы этических систем, опираясь на их по-следствия, а не на происхождение. Так, Джон Ролз начинает свою известную книгу «Теория справедливости» (1971) с предложения, которое он считает бесспорным: «В справедливом обществе должны быть установлены равные свободы граждан, а права, гарантируемые справедливостью, не должны становиться предметом политического торга или же калькуляции политических интересов». Роберт Нозик начинает книгу «Анархия, государство и утопия» (1974) со столь же безапелляционного заявления: «У людей есть права, и существуют вещи, которые с ними не могут сделать ни отдельные личности, ни группы (не нарушая их прав). Эти права настолько сильны и масштабны, что возникает вопрос, могут ли что-то сделать с ними государство и его чиновники». Два этих положения несколько различны по содержанию и ведут к совершенно разным выводам. Ролз допускает жесткий социальный контроль, который призван обеспечить максимально возможное равенство распределения общественных благ. Нозик полагает, что идеальное общество в минимальной степени управляется государством, основная задача которого заключается лишь в защите своих граждан от насилия и обмана, тогда как неравное распределение благ является вполне допустимым. Ролз отвергает меритократию. Нозик меритократию принимает в качестве желательного исключения в тех случаях, когда определенные сообщества сознательно решаются на эксперименты с эгалитаризмом. Как и все, философы воспринимают свои личные эмоциональные реакции на различные альтернативы как откровения от некоего тайного оракула.
Этот оракул обитает в глубоких эмоциональных центрах мозга, вероятнее всего — в лимбической системе, сложной сети нейронов и вырабатывающих гормоны клеток, расположенных непосредственно под «мыслительной» частью коры головного мозга. Эмоциональные реакции человека и основанные на них более общие этические практики в значительной степени запрограммированы естественным отбором в течение жизни тысяч поколений. Задача науки — оценить силу ограничений, порожденных программированием, обнаружить их источник в мозгу и расшифровать их значимость посредством реконструкции эволюционной истории разума. Эта задача станет логическим дополнением продолжающегося изучения культурной эволюции.
Успех породит вторую дилемму, которую можно сформулировать следующим образом: каким цензорам и мотиваторам следует подчиняться, а какие лучше было бы сократить или сублимировать? Эти руководящие принципы обращены к самой сути нашей человечности. Они, а не убеждение в собственной духовности, отличают нас от электронных компьютеров. В определенный момент будущего нам предстоит решить, насколько человечными мы хотим остаться — в абсолютном, биологическом смысле слова, — потому что мы должны сделать сознательный выбор между унаследованными альтернативными эмоциональными установками. Определение собственной судьбы означает, что мы должны отказаться от автоматического контроля, основанного на биологических свойствах, и перейти к точной настройке, основанной на биологических знаниях.
Поскольку руководящие принципы человеческой природы следует изучать с помощью сложной системы зеркал, они очень обманчивы и сулят ловушку любому философу. Единственно верный путь — это изучение человеческой природы в рамках естественных наук и попытка интегрировать естественные науки с социальными и гуманитарными. Я не предлагаю никаких идеологических или формалистических упрощений. Нейробиологию [3]невозможно изучать у ног некоего гуру. Последствия генетической истории невозможно выбирать законодательным путем. В конце концов, хотя бы во имя собственного физического благосостояния мы не можем оставить этическую философию в руках нескольких мудрецов. Человек может достичь прогресса путем интуиции и силы воли, но оптимальный выбор среди множества критериев прогресса можно сделать только на основе добытых ценой больших усилий эмпирических знаний о собственной биологической природе.
Читать дальше
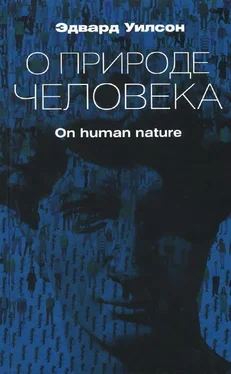
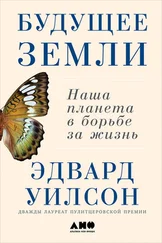
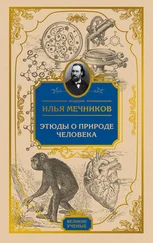
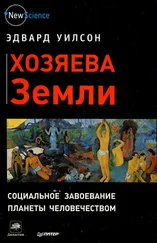
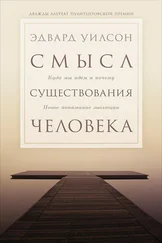
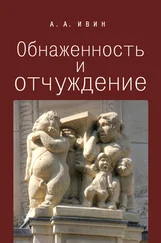

![Эдвард Уилсон - Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres]](/books/407117/edvard-uilson-eusocialnost-lyudi-muravi-golye-thumb.webp)