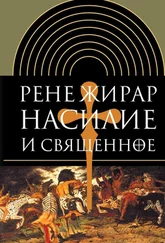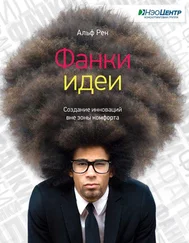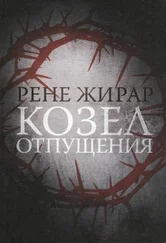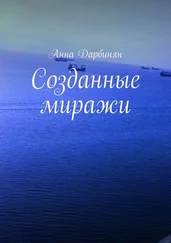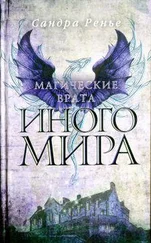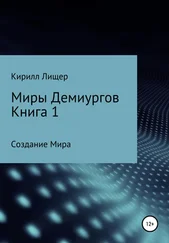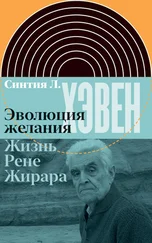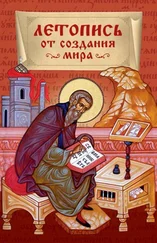Ж.-М.У.: Это фундаментальные вопросы. Без мимесиса нет человеческого интеллекта, нет культурного ученичества. Мимесис -это сущностная сила культурной интеграции. Но является ли он одновременно той силой разрушения и распада, на которую намекают запреты?
Р.Ж.: К сожалению, современную мысль не интересуют ответы на эти сугубо научные вопросы. Французская критическая и теоретическая мысль необычайно тонко и виртуозно прослеживает парадоксы миметической игры на уровне текста. Но именно здесь она и наталкивается на свои границы. Французские критики слишком часто упиваются собственной словесной акробатикой, в то время как по-настоящему интересные вопросы остаются нетронутыми или даже снимаются во имя чисто метафизических принципов. Сегодня есть занятия получше, чем наслаждаться до бесконечности парадоксами, о которых великие писатели уже высказали все, что только можно было высказать на литературном уровне. Миметические переливы неинтересны сами по себе. Единственное интересное в них - это возможность бросить на них луч разума и преобразовать их в подлинное знание. Вот в чем подлинное призвание мысли, и оно снова и снова утверждается после периодов кажущегося упадка; сама избыточность материала, который ей приходится обрабатывать, представляет рациональное призвание устаревшим и преодоленным. Современное использование термина «подражание», в отличие от прежних форм религиозной мысли, скрывает более тяжелые и извращенные формы невежества. Поэтому вместо чахлого термина «подражание» я предпочитаю использовать греческое понятие мимесис, но при этом не принимаю какую-то платоновскую теорию о миметическом соперничестве, которой к тому же не существует. Единственная польза этого греческого термина в том, что он дает возможность уловить конфликтный аспект подражания- хотя и не проявляет его причину.
Эта причина, повторим снова, кроется в соперничестве из-за объекта, в мимесисе присвоения, и с этого всегда нужно начинать. Сейчас мы увидим, что к этому механизму можно свести не только запреты, но и обряды, вообще религиозную организацию в целом. Только исходя из этого единственного и исключительного принципа можно наметить целостную теорию человеческой культуры.
Ж.-М.У.: То есть примитивные общества ошибаются, когда полагают, что присутствие близнецов или произнесение вслух имени собственного вводит в общество двойников насилия, но их ошибка объяснима. Она связана с чем-то совершенно реальным, с исключительно простым механизмом, существование которого не подлежит сомнению, однако порождает неожиданные сложности; с другой стороны, эти сложности легко исправимы как на путях логики, так и в интердивидуальном [16] Interdividuel - неологизм Жирара, выражающий то. что человек формируется во взаимодействии со своим окружением, а не является независимым и автономным «Индивидуумом».
и этнологическом пространстве. Хорошо видно, что реальные запреты соответствуют тому, что можно ожидать от сообществ, которые увидели последствия эффектов миметизма, от самых благотворных до самых ужасных, и пытаются уберечься от них... как от чумы.
Р.Ж.; Совершенно верно.
Ж.-М.У.: Но вариативность отдельных культур настолько велика, что ваша унитарная теория представляется малоубедительной. Разве нет культур, которые требуют того, что запрещают другие? Разве мы не наблюдаем, как внутри одного и того же общества некоторое поведение, запрещенное в обычное время, легитимируется и даже приветствуется при исключительных обстоятельствах?
Р.Ж.: Это правда, и то, что мы до сих пор сказали, с виду противоречит этим фактам. Но если мы наберемся терпения, мы сможем увидеть, что это противоречие легко можно объяснить. Пока же мы сформулировали основополагающий принцип, заключающийся в том, что все запреты носят антимиметический характер.
Если рассматривать все антимиметические запреты как единое целое, от самых безобидных до самых ужасающих (кровная месть), можно увидеть, что они в общих чертах соответствуют этапам эскалации миметического заражения, которое задевает все более и более широкий круг членов сообщества и имеет тенденцию к усугублению соперничества вокруг объектов, которые сообщество не может поделить мирно: женщин, пищи, оружия, лучших мест обитания и проч.
Здесь мы снова наблюдаем непрерывный процесс, а этнологи, не видя единства миметического кризиса и необходимости его преодоления, пытаются фокусироваться на отдельных запретах, которые выглядят не связанными друг с другом. Короче говоря, запрету подвергаются в первую очередь те объекты, которые могут служить предлогом для миметического соперничества, все формы поведения, характерные для его этапов, которые становятся все более насильственными, все те индивидуумы, которые предстают как носители этих заразных «симптомов», такие, как близнецы, подростки в момент инициации, женщины в период менструации, больные и мертвецы, - все эти люди временно или навсегда изгоняются из своих общин.
Читать дальше
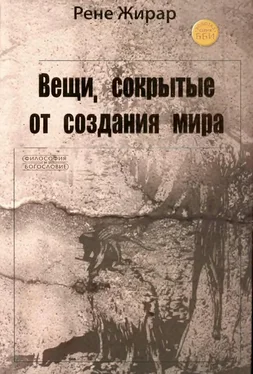
![Кирилл Корчагин - Все вещи мира [сборник]](/books/34796/kirill-korchagin-vse-vechi-mira-sbornik-thumb.webp)