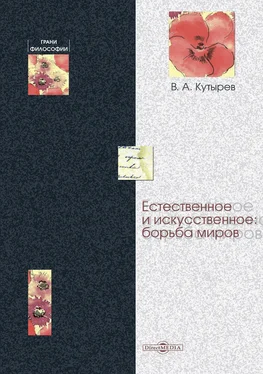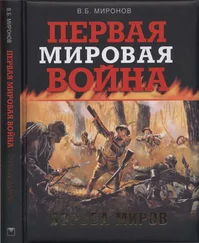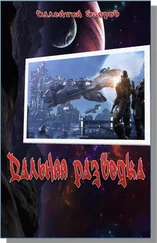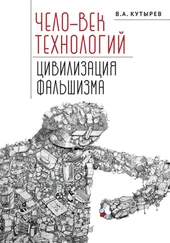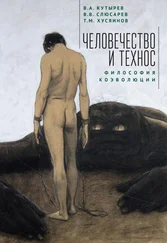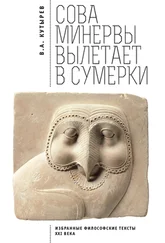Другими словами, человеческой цивилизации больше не существует. Она превратилась в постчеловеческую . Многочисленные «пост» – постструктурализм, постклассическая и постнеклассическая наука, постиндустриальное общество, постистория и постхристианство, постмодерновая культура, наконец, – все это приближение и частное проявление постчеловеческих свойств окружающей нас реальности в целом, когда человек становится элементом, «фактором» чего-то им созданного и более сложного. Оно для него еще не «анти», но уже «пост». Постчеловеческая цивилизация – не цивилизация без человека буквально. Это мир созданный и создаваемый им самим, но приобретающий независимость от своего творца. Изменяясь в дальнейшем по автономным законам и становясь несоразмерным человеку как конечному живому существу, он заново ставит перед ним проблему своего понимания и освоения. Таким становится характер производимой нами «второй природы» – сложной многомерной искусственной реальности, все более и более определяющей нашу жизнь.
Поскольку деятельность современного человека по самой сути опосредована техникой, машинами, то эта цивилизация часто определяется как человеко-машинная.
Факт достаточно признанный и говорит сам за себя. Мы теперь в ней «не одни» еще до того, как появятся разумные роботы, равные отдельному индивиду. Из понятия человеко-машинного мира вытекает, что человек становится компонентом, фактором более общей целостности. Это проявляется в многочисленных частных случаях «факторности» человека, наконец, неслучайности распространения данного понятия. В языке стихийно отразился новый, постчеловеческий статус человека в мире. В газетах уже появились ликующие заголовки: «Робот исследует человека» (речь идет об анализе ДНК человека) или: «Машина – человек, счет 1:0» (речь идет об игре в шахматы).
Не касаясь трактовки индивида как субъекта и как фактора в истории вообще, нельзя не отметить Особую сложность сохранения его субъектности в рамках человеко-машинного взаимодействия. Тенденция здесь такова, что человеческое начало учитывается все меньше, о чем свидетельствует то решающее значение, которое придается во всех прогнозах интеллектуализации ЭВМ, передаче функций человеческого мышления искусственному интеллекту. В научно-технической литературе видно устойчивое стремление к «переквалификации» компьютеров из помощников человека в равноправных участников общения, а потом и превращения в «лиц, принимающих решения» – вместо человека. Указанная тенденция есть выражение агрессивности постчеловеческого мира и противостоять ей без предварительного признания этого феномена невозможно. Вообще, страусиный гуманизм только вредит. Ввиду убежденности большинства специалистов в возможности создания искусственного интеллекта, равного, а следовательно, в будущем превосходящего человеческий по своим функциям, надо допустить принципиальную неединственность интеллекта человека, считаться с перспективой его развития во внечеловеческий, постчеловеческий. И трезво глядя в глаза проблеме, не застилая их ни пленкой оптимистической глупости, ни слезами, поставить вопрос о месте человека в этой новой ситуации. Надо поставить вопрос о границах отношения к нему как к фактору вообще, исследовать его роль в качестве такого фактора в диалоге с машиной – и шире – в «постчеловеческой» реальности, борясь за то, чтобы она не превратилась в бесчеловеческую, чтобы мир, в котором человек «не один», не превратился в мир без человека. Обсуждаемый повседневно, поднятый на политическую высоту вопрос о нашем выживании надо понять и философски. Не все же философам плестись в хвосте событий.
Средства превращаются в цели
Основные вехи в переоценке положения человека в окружающем мире обычно связывают с именами Коперника, Дарвина, Винера. Коперник отодвинул нас из центра мира на периферию, тем самым лишив космической избранности. Дарвин показал, что в биологическом плане люди только один из многих видов, возникших в процессе органической эволюции и тем самым лишил нас несоизмеримости с остальной живой природой. Винер поставил вопрос о соотношении человека с техникой, в перспективе способной к воспроизведению его действий. И хотя первые две вехи уже оспариваются, например, сторонниками «антропного принципа» или представителями «тонких реалий», третью, техническую веху мы еще не прочувствовали. Отдать отчет в изменившейся роли современной техники только предстоит. Главное здесь то, что техника перестает быть средством деятельности человека, его «орудием». Она партнерствует с ним, а во многом решительно подчиняет. Хорошо знакомые с ситуацией, но не ставшие ее пленниками, специалисты по технике описывают дело в весьма тревожных тонах. «Благодаря развитию вычислительной техники, средств информатики, многие операционально-технические, в том числе интеллектуальные, функции стали от человека уходить. Наметились такие тенденции развития техники, когда машина перестает быть средством деятельности в СЧМ (системах человек-машина), а сам человек превращается в такое средство. Человек оказывается не в системе деятельности, а вне ее, он теряет – место и роль субъекта деятельности». [2] Зинченко В. П. Эргономика и информатика // Вопросы философии. 1986, № 7. С. 61.
Читать дальше