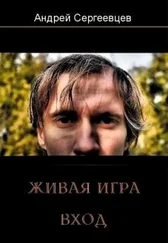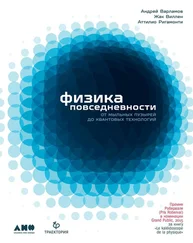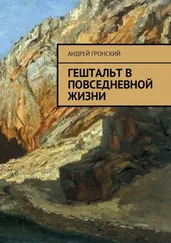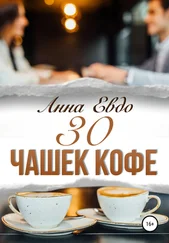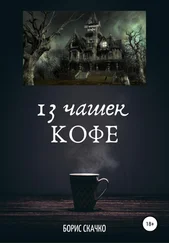Борис Соколов
Сознание всегда отлично от того, что сознается. Живя и действуя, мы связываемся с массой вещей, однако сознание оказывается дои послеэтих «вещей»: оно доводит нас до «вещей» и позволяет нам покидать их, чтобы иметь возможность перейти к иному. В этом отношении сознание можно понимать чистым действием; действием как таковым.
Есть и еще одно важное, на наш взгляд, обстоятельство. Собранность человека в жизни и жизнью отличается от его собранности в сознании, и сознанием. К жизни мы приспосабливаемся и прилаживаемся: сама жизнь, видимо, несет в себе характер приспособления; приспособления к чему бы то ни было; ко всему. С сознанием же нам приходится считаться: если нам доводится с ним сталкиваться, то мы его принимаем; принимаем его как силу, которая ведет себя всегда определенным образом и выражает себя определенным способом, т. е. только так и не иначе. В сознании есть некая строгость, которую мы готовы принять. Сознание – это уже готовая форма, и эта его «готовность» поражает. Она свела с ума не одного человека, когда он начинал размышлять о том, кто же его – сознание – так здорово «приготовил». Если же мы не считаемся с такой готовностью сознания и нас его законченность, неустранимость и всеохватность не устраивают, то сознание исчезает. В этом случае оно исчезает для нас, но перед тем, кто его готов принять, оно
раскрывается
в своем тотальном отсутствии, ибо то, чтои какмы проживаем в этом мире, говорит о том, что как раз с сознанием как таковым мы не встречаемся, встречаемся с делом, заботой, вещами, наконец, с теми, у кого, как и у нас, сознание раскрывается в его отсутствии. Но его раскрытие в его отсутствии отнюдь не означает то, что в своем отсутствии оно не присутствует. Сознание всегда присутствует. При-сут-ствует. Здесь необходима ремарка. Термин присутствие – перевод хайдеггеровского Dasein, предложенный Бибихиным, который мне симпатичен, прежде всего, потому, что в этом слове звучит не формальное нахождение рядом, а именно – проникающее внутрь, в суть происходящего или случающегося: «при-сут(ь) – ствие». Присутствие, прочитанное как проникновение в суть, причем проникающе-изменяющее саму суть и, одновременно, дарующее нам эту самую суть. Понятое таким образом присутствие (а не как формальное «нахождение в…», на что нас ориентирует обыденное употребление данного слова) говорит о том, что оно имеет дело с сутью вещей, событий, людей и т. п. А теперь вопрос: Но что донесет до нас эту самую суть, как не сознание? Что, как не наше сознание, вообще схватит и осмыслит то, что перед нами предстоит как мир вещей, людей, событий?
Но почему, наконец, мы употребляем термин «сознание»? Не душа, не разум, не мысль? Может быть, это происходит потому, что мы разучились думать о «душе», заменив «архаичный» титул более нейтральным и секуляризованным «сознанием»? Скорее всего, речь идет не столько о простом замещении одного слова другим, сколько о значительной корректировке нашего взгляда, нашей мысли, нашей, наконец, жизни. В самом деле, когда мы говорим о душе, то невольно включаем в наш разговор Бога, потустороннее, вечное, трансцендентное. Иначе обстоит дело, когда мы употребляем термин «сознание»: мы сразу же «присягаем» на верность современной модели объективности и научности…
И так, наверное, нам проще и, во всяком случае, нейтральнее. К тому же, вполне научно и современно. И, что самое грустное, вполне привычно. Но с чем мы в этом случае имеем дело, вполне научно и нейтрально вопрошая о том, что «обитает» в нашей голове? Думается, что чаще всего мы как раз встречаемся с отсутствием сознания, по крайней мере, если дело сознания – порождать мысль. Это значит, что с ним – с сознанием, порождающим мысль, – довольно редка бывает наша
встреча
с сознанием способна испугать, как и любая встреча человека с совершенно новым. Тут главное не то, чтобы не испугаться, а то, что надо попытаться продумать свой страх, т. е.
войти
скорее, погрузиться в сознание, в которое, в свою очередь, погружена мысль, которая – и тоже в свою очередь – погружена в то, о чем она, эта мысль, и в то, кто мыслит. Всегда, когда мы обращаемся, входим в проблему сознания, мы входим в «штопор» бесконечного круговорота отсылок, референций, отношений, различений… Мы не можем остановиться ни на чем однозначном, а потому, предвидя провал и катастрофу уже состоявшихся попыток найти твердую и не сдвигаемую точку опоры, ну хотя бы только надежду на незыблемость, мы отступаем… Или убеждаем себя, что вот оно, вожделенное «все ясно»… чтобы через мгновение почувствовать – и счастье, кто не застрял на придуманной им опоре, но продолжает движение вперед, – что все решенное ускользает и прячется. А потому мы боимся
Читать дальше
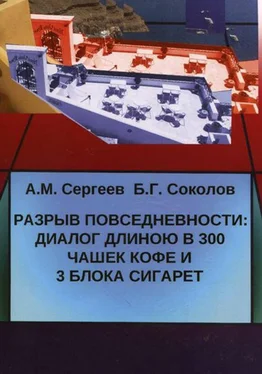
![Андрей Сергеевцев - Живая игра - p.a.r.a.d.o.x. [СИ]](/books/35126/andrej-sergeevcev-zhivaya-igra-p-a-r-a-d-o-x-si-thumb.webp)