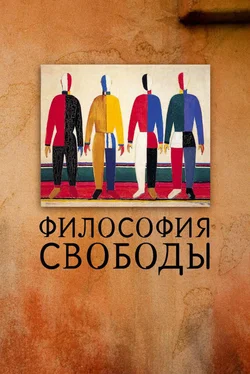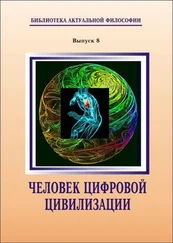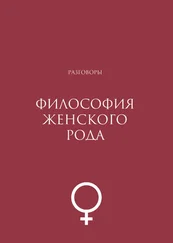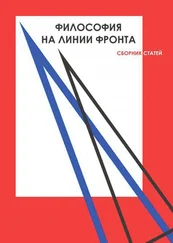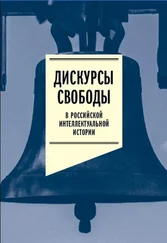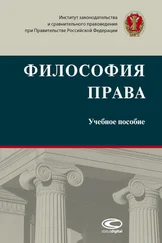Онтологически, говорит Жижек вослед Малабу, привычка есть превращение «акциденции» в «сущность» [42] Zizek S. Discipline between Two Freedoms – Madness and Habit in German Idealism // Gabriel M., Zizek S. Mythology, Madness, and Laughter: Subjectivity in German Ideliasm. London: Continuum, 2009. С. 104.
. Но тем самым, вся антропология превращается у Жижека и Малабу в «акциденцию» – именно потому, что они игнорируют реальное, а не пустое, основание индивида у Гегеля. Но хотя переход от антропологии к феноменологии и в самом деле есть переход к логике сущности, Wesenslogik, но основание (в области воплощённого духа, а не до воплощения, как дух представлен в «Науке логики») у сущности, то есть, сознания, вовсе не акцидентально. Напротив, будучи включённым в дух и духом насквозь определяемым, антропологический индивид есть та интенсивная точка (Individualitätspunkt, как сказал бы Фихте [43] Fichte J. G. Darstellung der Wissenschaftslehre (1801/1802). Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1997. С. 202.
), из которой эксплицируется всё дальнейшее развитие духа [44] Об этом см. Чепурин К.В. Человеческая душа, её интенсивность и судьба: введение в антропологию Гегеля // История философии. 2011. № 16 (в печати).
.
Решающий изъян подхода и Малабу, и Жижека к антропологии Гегеля состоит в том, что они смотрят на всё совокупное движение духа с обзорной точки феноменологии – сознания и рефлексии – а не антропологии, тем самым проходя мимо не только Гегелевой антропологической критики сознания-как-рефлексии, но и антропологии как основания психологии. А ведь именно антропология является тем первоначальным (интенсивно определённым) единством, которое делает возможным дальнейшее духовное единство, разбираемое Гегелем в разделе «Психология» философии субъективного духа [45] Подробнее о Гегелевой антропологической критике сознания и об антропологическом единстве у Гегеля как основании единства духовного см. Чепурин К. В. Анализ сознания в «берлинской» феноменологии Г. В. Ф. Гегеля // Вопросы философии. 2009, № 10. С. 134–139.
. Интенсивность человеческой души – «интенсивная форма индивидуальности», подлежащая, согласно Гегелю, всякой сознательной активности индивида – и есть у Гегеля антропологическое «ядро», игнорируемое и Жижеком, и Малабу. Наличием этого «ядра» и отличается, по Гегелю, человеческая душа, анализируемая в философии духа, от души животной, являющейся предметом философии природы. На деле то «ничто», о котором говорит Жижек, не есть ничто индивида, к чему сведено оно у Жижека. Это, можно сказать, некое предначальное ничто – само событие учреждения антропологии, saltus абсолютного духа [46] Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Philosophie des Geistes. Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1994. С. 52.
. Антропология у Гегеля уже включена в дух как индивидуальная точка его претворения в действительность. Но Жижек не может включить антропологию в дух – это значило бы переместить момент разрыва, который в таком случае уже находился бы не в преддверии феноменологии, но в преддверии философии духа в целом, и тем самым отказать рефлексии в абсолютной претензии на мышление и дух, на что Жижек пойти никак не готов. Но, как прекрасно понимал уже Фихте, индивидуальность – это уже Закон, место претворения Закона в действительность, и разрыв между природой и законом имеет место (логически) до перехода к индивидуальности, до количествования.
Жижек говорит, что переход к привычке есть переход от природы к человеку и человеческому духу, и что учреждение человеческого – «не разрыв» мира природы. У Гегеля же дело обстоит ровно наоборот, как о том свидетельствует вся приостановка природного порядка, происходящая при учреждении порядка духовного в гегелевской антропологии. Чего, возможно, не учитывает Жижек, так это одного очень существенного момента гегелевского словоупотребления: «природа» по отношению к животному миру значит у Гегеля вовсе не то же, что «природа» по отношению к человеку, к человеческой душе, к слепому началу духа – внутри духа же, а не отчуждённо от него. Между животной природой и человеческой природой пролегает – contra Жижек – именно разрыв, событие рождения индивидуальной человеческой души:
Положенность непосредственного (т. е. человеческой души) есть положенность самого духа, который сам себя предполагает, некое предположенное, но это сам дух есть предполагание этого предположенного. … Стало быть, мы начинаем с непосредственного (т. е. с души); но мы знаем также, что это дух как душа предполагает самого себя. Это некая игра духа, цель которой – прийти к самому себе [47] Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Philosophie des Geistes. Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1994. С. 31. Курсив мой. – К. Ч.
.
Читать дальше