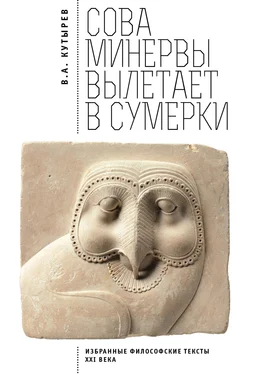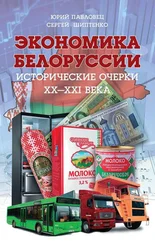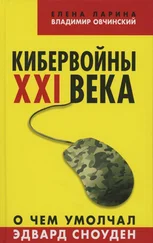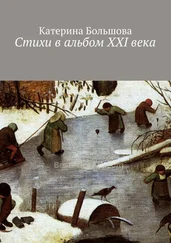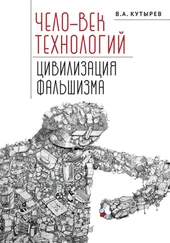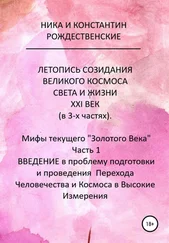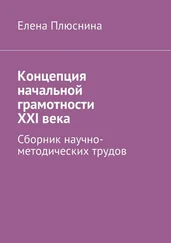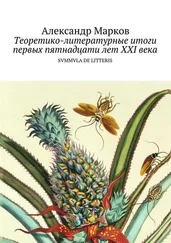В последние годы мы были свидетелями того, как окружающие нас вещи, «преобразовывались в системы». Прежде монолитные, далее неделимые и непроницаемые (в логическом, а не физическом смысле), они все больше предстают внутренне расчлененными и организованными. Простое, цельное уступает место сложности, системному. Мы уже не открываем эту сложность, а признаем ее заранее, априорно, до того, как что-то начали исследовать. Соответственно, в научном познании на первый план вышли системные методы. Их пакет весьма разнообразен и непрерывно пополняется новыми модификациями. При известных условиях системой можно признать всякую совокупность компонентов, связей и отношений. Ею является и совокупность устойчивых, инвариантных, повторяющихся связей и отношений. В этом случае система обычно определяется как структура. Структура – тоже система, только не любых, а закономерных связей и отношений объекта, обеспечивающих сохранение его свойств, тождественность самому себе, несмотря на внешние и внутренние изменения. Это абстрактно-теоретический уровень воспроизведения сложности явлений. В целом, учитывая возможность системных подходов к действительности на разных этапах познания, их чаще всего определяют как системно-структурные, системно (структурно) – функциональные, системно (структурно) – генетические и т. д.
Воспроизводя реальность через связи, отношения и функции, при системно-структурном исследовании отвлекаются от ее непосредственно «вещного», «событийного» выражения. Обобщенно говоря, отвлекаются от субстратно-качественного подхода к ней (в сущности, это философское название нашего жизненного мира), заменяя его количественно-информационным, в свете которого отдельные вещи и явления предстают в виде совокупности по-разному организованных отношений или функций, а многообразие форм движения материи как многообразие ее структурных уровней. Система, структура, функции в определенной степени независимы от своих носителей, природа которых может быть весьма различной. Как при сложении скоростей мы отвлекаемся от различия между птицей, самолетом, человеком и любыми другими объектами, если рассматривать их в качестве средств передвижения, так в процессе системно-структурного исследования мы отождествляем объекты с точки зрения выполняемых ими функций. Их качественная идентичность при этом только мешает и от нее – отвлекаются.
Исторически первым и наиболее осознанным способом подобного отражения реальности была математика. Ориентированная на количество, на число, она «по определению» жестко противостоит иным, качественным подходам, воспроизводящим действительность в чувственной форме и описывающим ее естественным языком. Долгое время считали, что одни сферы бытия (немногие) поддаются количественному выражению, другие – нет. Постепенно, однако, математика, преодолев узкие рамки фрагментарного использования, стала применяться в большинстве научных дисциплин. Математизацию науки начали расценивать как показатель, иногда даже синоним, высокого уровня ее развития. Идея mathesis uni-versalis пронизывает всю рационалистическую мысль Нового времени. Книга природы, говорил Галилей (Кант, Маркс) написана на языке математики. В ходе дальнейшего развития наук, математика, количественные методы перестают отождествляться с числом и практически приравниваются к методам формализации (в широком смысле слова), к логико-теоретическому воспроизведению реальности. Математика определяется как иерархия знаковых структур. Это не значит, что структурный и функциональный анализ, теория информации, логика и математика совпадают по роли, которую они играют в познании, но тем не менее ясно, что по важнейшим признакам – уровню и принципам подхода они в сущности едины. Не все абстрактные теории, не все функциональные зависимости нуждаются в численном и графическом выражении, но они это допускают, они могут моделироваться на математических машинах, компьютерными устройствами. Все рационально-логическое исчислимо, вопрос о конкретном обращении к этой процедуре является или вопросом ее целесообразности или «делом техники». Уверенность в возможности структурно-информационной обработки своих материалов овладела представителями большинства отраслей знания, полагающих, что ограничены лишь практические возможности измерения и построения математических моделей, но эта ограниченность будет преодолена по мере развития науки. Более того, с расширением структурно-функциональных подходов в познании, конструирования интеллектуально-информационных систем в технике, появились мнения, что наука вообще не имеет дела с субстратами, что они являются пережитком донаучных форм восприятия мира. Структурализм родился с лозунгом антисубстративизма, сознательно противопоставляя себя предметному (вещно-событийному) воспроизведению реальности. «С научной точки зрения, – писал один из его основоположников, – вселенная состоит не из предметов или даже «материи», а только из функций, устанавливаемых между предметами. Предметы же в свою очередь рассматриваются как точки пересечения функций». [7] Ульдаль X. И. Основы глоссематики. Новое в лингвистике М, 1960. С. 400.
Учитывая, что функциональность является предпосылкой формализуемости, структурализм повторил поставленную прежним позивитизмом задачу превратить все человеческое знание в строгую формально-логическую науку, которая является предтечей цифрового мира. И нельзя отрицать значительной оправданности этой тенденции, особенно в связи с разработкой проблем искусственного интеллекта. Но именно только значительной, а не полной, имеющей свои онтологические и смысловые границы, о которых мы как раз намерены вести речь. Принципиальные трудности в осуществлении максималистских установок структурализма, в том числе стремления выразить все наше знание в объективированных структурах, а процесс его получения свести к переработке информации, обнаружились довольно скоро. Причем трудности эти выявились не только в социально-гуманитарных дисциплинах, но познании в целом. Каковы они и возможно ли их преодоление? А главное, в какой мере оно необходимо, является ли формализованное описание действительности высшей целью исследования (даже если не думать о его воплощении в практику)? Короче говоря, ситуация когда, по словам известного болгарского философа Савы Петрова, субстрат и субстанция вытеснены на периферию науки, а на первый план выдвинулось рассмотрение структур и функций, заслуживает гораздо большего внимания, чем ей обычно уделяется. [8] См.: Петров С. Методология на субстратния подход. София: Изд-во «Наука и искусство». 1980; а также Зуев Ю. И., Секундант С. Г. Социальная детерминация субстратной категориальной парадигмы // Социальная детерминация познания. Тарту, 1985; Губанов Н. И. Чувственное отражение. М., 1986; Гагаев А. А. Теория и методология субстратного подхода в материалистической диалектике. Саранск, 1991. Вообще, литературы, посвященной «качественной» «гетевской» традиции, несравненно меньше, чем той, где обсуждаются абстрактно-теоретические, количественные методы, и совсем мало работ, где бы выявлялось взаимодействие структурной и субстратной реальности.
Читать дальше