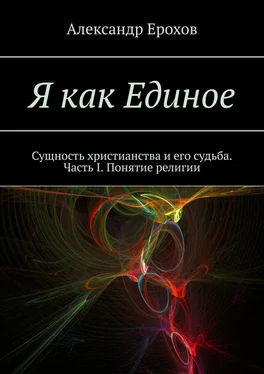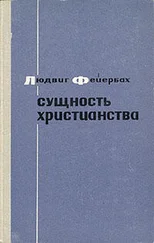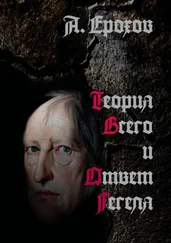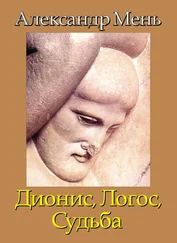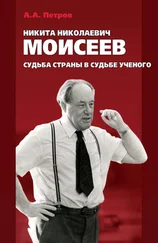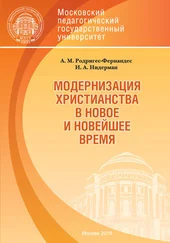В «Феноменологии духа» как раз и показан тернистый путь обретения этого знания, абсолютного знания тождества индивидуального я и Я абсолютного, «…здесь установлено, что… сущность … суть знание „я = Я“…» [7, 425]. Гегель приглашает каждое самосознание проследить этот путь в самом себе, и тогда эта сущность станет для него простой очевидностью 5. «Отдельный индивид должен и по содержанию пройти ступени образования всеобщего духа, но как формы, уже оставленные духом, как этапы пути, уже разработанного и выровненного…» [7, 15]. И начинать дόлжно без всякого мудрствования, просто отдаваясь непосредственному восприятию, «…ничего не изменять и постигать без помощи понятия» [7, 51]. Первое, с чем сталкивается индивид в таком восприятии – непосредственная, детская чувственная достоверность . Это восприятие еще не думает и не знает о самом себе, для него непреложной истиной предстает то, что чувствуется. Я вижу ветви мощного дерева, сочная зелень которого пробивается с первыми лучами солнца, я чувствую их тепло. Я слышу восторженный птичий гомон, который так созвучен моим ярким переживаниям. Я ощущаю любящее прикосновение самого близкого мне человека и нежную бархатистость губ… Кто не помнит этого первого детского пробуждения чувственности, того неуемного восторга, который переполняет все наше тело, который заставляет нас помимо нашей воли пищать, кричать, двигаться и заставлять радоваться этому всех тех, кто находится рядом? Это яркое внешнее многообразие, открывшееся нам, потрясает. Оно покоряет нас, оно предстает неизменным в своей величавости и непобедимости… Но… По прошествии некоторого времени мы начинаем понимать, что эта величавость и неизменность ничтожна – мы можем сломать это дерево, мы можем поймать этих птиц и посадить их в клетку, мы можем длительными воплями заставить родителя покориться нам и добиться своей конфеты, не первой и не последней за этот день… Мы вдруг, с неменьшим восторгом, открываем для себя убожество, слабость этого мира – я, именно я, могу делать с этим миром все, что мне заблагорассудится, и мир обязательно покорится мне, если я буду неутомим в своих притязаниях и буду настойчиво стремиться удовлетворить себя… Мир перевернулся. Оказывается, вся его внешняя мощь – это только видимость, она ничтожна передо мной, перед моей внутренней силой. И я возвращаюсь в себя, я понимаю, что действительная мощь этого мира находится внутри меня и, если я достаточно разовью в себе эту мощь, накрепко свяжу ее с самим собой, я и только я буду властвовать над этим миром… 6
Мое вожделение не знает границ. Но… оно сталкивается с вожделением других я. Я вступаю в борьбу и через опыт рабства или опыт господства я прихожу к тому, что я, противостоящих моему я, не существует . Все я есть одно Я. Я на опыте постигаю тождество всех я: я = я = я = … = я, или я = Я. Рано или поздно я понимаю также, что эта мощь не связана с физической силой, с упругостью моих мышц или ловкостью в ударе. Эта мощь связана с моим внутренним содержанием, с мыслью, которая пронизывает все и которая сама по себе есть все… Любая вещь, которая предстоит мне «…по существу есть то же, что и движение…» [7, 60] – вещь не является чем-то устойчивым и постоянным, она всегда имеет свое начало и свое завершение во времени и пространстве, по существу она есть простая текучесть, процесс. Но любой процесс в чистом виде есть отношение нечто к иному. Любая мысль в чистом виде есть также отношение нечто к иному. И значит, любой процесс, в сущности, есть мысль . Я нахожу ежесекундное подтверждение мощи мысли вокруг себя: любая вещь, сотворенная человеком, – каменный топор, стул, лопата, самолет, атомная электростанция и прочее, и прочее, и прочее – все это материализация мысли, все это подтверждение ничтожности внешнего мира и неиссякаемой мощи мысли. Являющаяся вещь – иллюзия, ее действительное содержание – мысль. Но и себя, мое внутреннее, я воспринимаю только как мысль. Более того, вещь есть просто определенность, явление которой инициирую я. Я определяю вещь, даю ей определенность, то есть существование. Мысль поглощает все – и то, что находится вовне меня, и то, что есть мое внутреннее содержание. Остается только она одна. Я и не-я смыкаются в одном поле, в поле всеобщей мысли. «В диалектике чувственной достоверности для сознания исчезли слышание, видение и т.д., и как воспринимание оно пришло к мыслям, которые, однако, оно впервые связывает в безусловно-всеобщем» [7, 71]. Я теряет себя в безусловно-всеобщем, имеющем видимость хаотичности. В поисках самого себя в этом буйстве мысли всеобщего я совершает новое усилие и вновь находит себя, но уже в своей истинной форме – в форме понятия .
Читать дальше