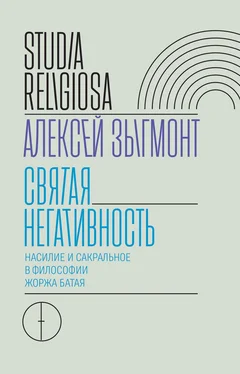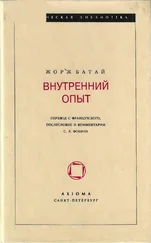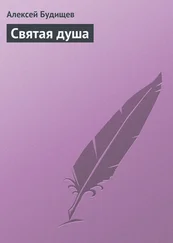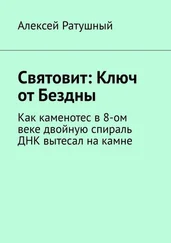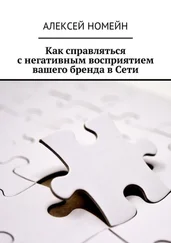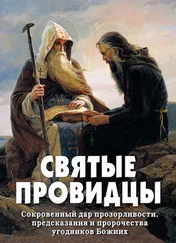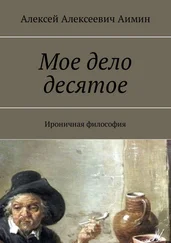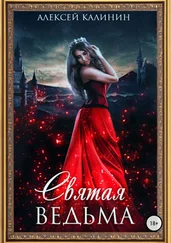В этом, коротко говоря, и заключается его концепция насилия и сакрального, которую он противопоставляет «целесообразному» насилию и Zeitgeist XX века с его «дурманом» и «болтовней». Поэтому, несмотря на кажущуюся отвлеченность батаевской рефлексии и его интерес к архаике, искусству и мистике, смысл его борьбы – глубоко вовлеченный. Для ее ведения мобилизуются все ресурсы: антропология, социология, биология, экономическая наука, психоанализ, актуальные философии, доисторическое искусство, современный роман… Если поначалу концепция насилия и сакрального Батая и может показаться частной, то в конечном счете становится ясно, что она вбирает в себя всю его философию. Цель данной работы – проследить ее становление в мысли философа и составить к двум представленным выше формулам (из «Эротизма» и «Чистого счастья») историко-философский и историко-культурный комментарий.
Начнем, однако же, с философии.
Одной из характерных особенностей французской философии XX века является ее комплексный характер: помимо определенной вольности стиля, местами явно торжествующей над содержанием, ее часто отличает смешение жанров, так что в качестве философии она включает в себя в том или ином ее виде науку, литературу, публицистику, а также социальный и политический активизм. Некоторые авторы – Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Бланшо, Ю. Кристева и т. д. – писали художественную прозу; другие – напротив, профессионально занимались литературоведением или историей идей; третьи – как Ф. Фанон – прославились прежде всего философским участием в, условно говоря, нефилософской сфере. Батай – мыслитель, превосходно иллюстрирующий эту французскую особенность: его принято считать «сложным» автором, но эта сложность является эффектом, вызванным подобным переплетением жанров, регистров письма и влияний. Его идея тождества насилия и сакрального, в свою очередь, представляется здесь наглядным примером: будучи по сути философской концепцией, имеющей дело со вполне специфической онтологией, гносеологией, теорией субъекта и т. д., она начинает формироваться еще в наиболее ранний, литературный, период его творчества, затем находит себе реальное приложение в форме всякого рода общественных инициатив, и, наконец, завершается в близости к наукам – социологии, антропологии, экономике. Все это вынуждает нас задаться вопросом, был ли Батай философом вообще – или не только философом, но и кем-то еще?
Ответить на эти вопросы нам поможет определение его места в истории западной философии. Определяющее влияние на его становление как мыслителя оказали два момента. Первый – встреча в 1922 году с русским религиозным философом Львом Шестовым, ставшим его «первым учителем философии» [10] Bataille G. Conférences // ŒC. T. 8. P. 561–562.
и впервые познакомившим его с мыслью Достоевского и особенно Ницше, которому Батай оставался верен до конца своих дней. Эта встреча определила все дальнейшее направление батаевской мысли – в частности, его иррационализм, интерес ко всякого рода предельным сторонам человеческого существования и специфическую религиозную интерпретацию ницшеанства, характерную именно для русской мысли [11] Бонецкая Н. К. Русский Ницше // Вопросы философии. 2013. № 7. С. 133–143.
. О различных аспектах влияния Шестова на Батая писали многие исследователи, и все они указывают на глубокое преемство между учениями этих двух авторов [12] См., например: Surya M. Georges Bataille, la mort à l’œuvre. Gallimard, 2012. P. 100–103; Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб.: Изд-во Олега Абышко. С. 14–18; Пономарева М. О. Л. И. Шестов как предтеча постмодернизма // ХОРА. 2008. № 2. С. 91–98; Ворожихина К. В. Лев Шестов и его французские последователи. М.: ИФ РАН, 2016. С. 68–85.
.
Второй момент – посещение Батаем семинаров по «Феноменологии духа», которые Александр Кожев вел в Высшей школе практических исследований в 1934–1939 годах. Винсент Декомб в своей работе «Тождественное и иное» (1978) представляет этот семинар как своего рода «матрицу» всей французской мысли XX века, оказавшую серьезнейшее влияние, например, на таких мыслителей, как Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, Ж. Ипполит и многих других [13] Декомб В. Современная французская философия. М.: Весь мир, 2000. С. 15–21.
. По его словам, Батай также принадлежал к поколению «трех „H“» (Hegel, Husserl, Heidegger), философию которых вдохновляли прежде всего эти немецкие мыслители. Оригинальная кожевская интерпретация гегельянства оказала на Батая столь сильное влияние, что он, по собственным же его словам, выходил с семинара «растерянным, уничтоженным, десятикратно убитым», и, в сочетании с иррационализмом, также определила собой все содержание его философии. Исследователь Кристофер Гемерчак, автор «Воскресенья негативности» (2003) – самого полного на сегодняшний день труда о влиянии Гегеля на Батая, – отмечает, что без осознания масштабов этого влияния понять батаевскую мысль совершенно невозможно [14] Gemerchak Ch. M. The Sunday of the Negative. Reading Bataille reading Hegel. State University of New York Press, 2003. P. 12.
.
Читать дальше