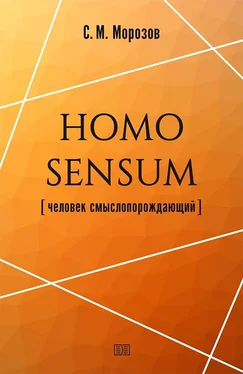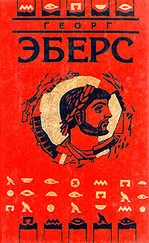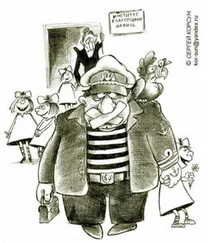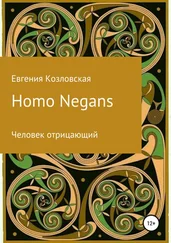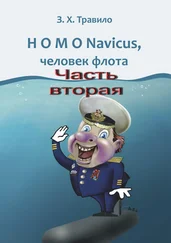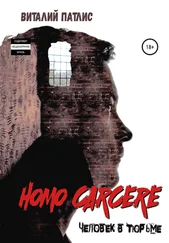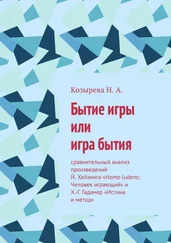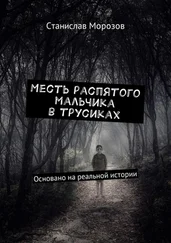Отказавшись от души, как предмета метафизического и чувственно непостижимого, многообразные психологические школы стали наперебой предлагать свои решения проблемы. Даже интроспекционисты предметом своего исследования считали только то, что дано нам нашими органами чувств [2] «Своим пониманием интроспекции Вундт зафиксировал элементаризм и сенсуализм, и в дальнейшем интроспекционизм в своих лабораториях неизменно обнаруживал сенсорные элементы, поскольку они были результатами «хорошего» наблюдения» (Боринг, 2002, с. 32).
.
Итогом всепроникающего эмпиризма стал известный кризис, охвативший психологическую науку. Философы заговорили о необходимости преодоления парадигмы интеллектуализма, о возвращении к «жизни духа»: «Высшей судебной инстанцией в делах познания не может и не должна быть инстанция рационалистическая и интеллектуалистическая, а лишь полная и целостная жизнь духа» (Бердяев, 1989, с. 28).
Впрочем, кризисные явления можно было обнаружить и в традиционных естественных науках. Проблема разведения фенотипических и каузальных понятий (Левин, 2001) нашла свое проявление в возникновении генетики и квантовой физики. Но в физике и биологии существовал чувственно-воспринимаемый предмет исследования. У психологов такого предмета не было.
Так было в начале прошлого века, когда Выготский заявил: психология смешивает бытие и явление. Словно заклинание воспроизводит он цитату из Маркса: «Если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня» (Маркс, Энгельс, 1963, с. 384; см.: Выготский, 1982а, с. 141, с. 413; Выготский, 1982б, с. 223; Выготский, 1983а, с. 98; Выготский, 1983б, с. 154; Выготский, 1984а, с. 73). Изучая явление, все психологические школы считают его предметом своего исследования, в то время как предмет психологии на самом деле лишь феноменологически дан нам в чувственном восприятии. Психология лишь на основании «кажимости» должна делать выводы о бытии. Поэтому она в принципе не может быть эмпирической наукой (то есть наукой, изучающей чувственно данные объекты). Необходима особая теоретическая психология, которая только и может быть общей психологией, построенной на базе диалектического материализма, то есть психология может быть только психологией диалектической. Основой системы взглядов Выготского выступала диалектическая идея. Все остальные теоретические конструкты – в том числе и тезис о культурно-историческом [3] Термин – «культурно-историческая теория Л.С.Выготского» – приобрел с годами устойчивый характер. Однако, имеется ряд аргументов, заставляющих терминологически отграничить теорию Выготского от иных культурно-психологических подходов современной психологии. Теория (и методология) Выготского, на наш взгляд, существенно отличаются от всего, сделанного до (и после) него. Иногда исследовательская программа, осуществлявшаяся Выготским и его единомышленниками в 1926–28 гг. (см.: А.А.Леонтьев, 1983), принимается как главное достижение Выготского и его научной школы. В то же время, в современной российской психологии, прежде всего усилиями А.Г.Асмолова (2001; 2002) и В.П.Зинченко (1996а;б; 2000), формируется культурно-историческая психология, которая, безусловно, базируясь на идеях, высказанных Выготским, содержательно выходит далеко за пределы теоретических конструкций, им созданных. Кроме того, в современной психологии (европейской и североамериканской) существует культурно-историческая школа, некоторые положения которой отличаются от принципиальных представлений Выготского (см.: Дорфман, 2001, с. 21–23). Поэтому в данной работе мы предпочитаем употреблять термин «психологическая система Л.С.Выготского», считая понятие «культурно-историческая теория» не столь определенным, как это было несколько десятилетий назад.
развитии человека и его психики – носили подчиненный характер по отношению к этой основной идее. Об этом, собственно, и пойдет речь в этой книге.
Авторы статьи, опубликованной в 1981 г. (Лучков, Певзнер, 1981), подчеркивая, что творчеству Л.С.Выготского посвящены всего лишь одна книга (Брушлинский, 1968) и одно диссертационное исследование (Радзиховский, 1979), призвали поддержать призыв А.В.Петровского (1967) посвятить Выготскому не одну историко-психологическую монографию, дабы «вернуться к Выготскому (или вернуть Выготского)» (Лучков, Певзнер, 1981, с. 61).
За прошедшие десятилетия многое изменилось. Статьи, монографии, диссертации, содержащие анализ психологической системы Выготского, исчисляются десятками, а может быть, и сотнями. Кажется, к сказанному добавить уже нечего. И все же идеи «Моцарта в психологии» (Тулмин, 1981) привлекают все новых и новых исследователей.
Читать дальше