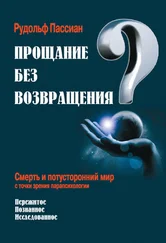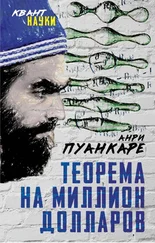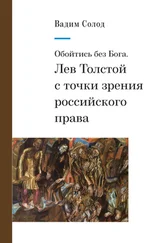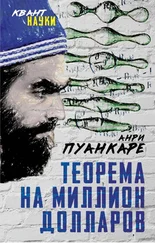Но есть у Толстого герои, которые воплощают собой искомую жизненную гармонию: это прежде всего Наташа Ростова в «Войне и мире» – художественный образ самой силы и полноты жизни. Наташа гармонична сама и вносит гармонию в окружающий мир. Другой, подобный ей по смыслу персонаж «Войны и мира» – Каратаев – также (в толстовской интерпретации) является воплощением гармонии. «…жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал», – пишет Толстой (12, 51). Образ гармоничного, целостного мира является во сне Пьеру – это сон о мире-глобусе, приснившийся ему в плену после смерти Каратаева. Глобус во сне Пьера – образ метафорический: Толстой впервые пытается здесь свести воедино свои представления о мироустройстве. В этом образе мира-глобуса центр есть Бог, а поверхность его – повседневная жизнь человека. Капли-люди, умирая, изливаются в центр – к Богу, источнику всего в мире. Постоянное перетекание капель к центру – Богу (смерть) – и всплытие их на поверхность (рождение) символизирует неизбежный круговорот жизни и смерти. Таким образом, в «Войне и мире», этой живой художественной картине целой эпохи, мы находим сцены философские (и сон о глобусе не единственный из них), в которых Толстой поднимается над текущей действительностью, чтобы увидеть мир и себя в мире не с точки зрения будничной суеты, где господствуют большие и малые человеческие страсти и интриги, а ощутить себя частью грандиозной космической структуры, включиться в ее ритм и почувствовать гармонию целого.
В «Войне и мире», в сцене, где описывается сон Пьера, появляется толстовский Бог в метафизическом смысле – как центр Всего. Без Бога (по Толстому) не выстроилась бы цельная картина мира и не было бы мировой гармонии. Идея необходимости гармонии выражена Толстым в эпилоге «Войны и мира» как апофеоз мирной жизни, завоеванной титаническими усилиями всего народа, победившего наполеоновское нашествие. Во всех же последующих произведениях писателя, написанных уже после перелома в мировоззрении, – от «Анны Карениной» до романа «Воскресение» и последних повестей («Смерть Ивана Ильича» – 1886, «Отец Сергий» – опубликовано посмертно); рассказов («Хозяин и работник» – 1895, «После бала» – опубликовано посмертно); пьес («Власть тьмы» – 1886, «Живой труп» – 1900) – герои проходят через состояние трагического разлада с собой и окружающим миром. Все они ищут смысл своей жизни – смысл, который поможет им встать на правильный путь и не только приведет к собственному душевному спокойствию, но и гармонизирует все вокруг, поможет сделать счастливыми окружающих. Именно тогда, во второй половине своей жизни, начиная с 1870-х годов, когда Толстой работал над «Анной Карениной», которая писалась в самый острый период его духовного кризиса, запечатленного в сюжетной линии Левина, Толстой все чаще обращается к мыслям о Боге и его роли в судьбах конкретных людей и человечества в целом, то есть к поискам ответа на главный вопрос: в чем смысл жизни и как надо жить, чтобы его найти и претворить в реальность.
В «Анне Карениной» Толстой фиксирует внимание на очередном этапе духовных поисков Левина, когда тот услышал от одного из крестьян его мнение о мужике Фоканыче: «Фоканыч для души живет, Бога помнит». Что значила эта загадочная фраза, так поразившая Левина? Позднее в своих публицистических и философских произведениях Толстой не раз разъяснял: жить по-Божьи значит отказаться от стремления к личному обогащению, карьерному росту, удовлетворению плотских страстей – что нередко приводит человека к ощущению неудовлетворенности, а порой даже к осознанию бессмысленности жизни. Полноценной жизнь становится тогда – и приносит человеку удовлетворение, – когда он приходит к пониманию, что жить надо «не для тела, а для духа», стремясь удовлетворять свои духовные запросы (размышление Толстого на эту тему – 40, 350). Но какие запросы прежде всего?
В ранней молодости Толстой не раз признавался в дневнике, что «всею душой желал быть хорошим». Вспоминая этот период в «Исповеди» он пишет: «Я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего» (23, 4). Ответ на то, что такое хорошее, Толстой искал долго, хотя в душе у него жило изначальное представление о «хорошем», которое нужно было только проявить, так как оно, считал писатель, заложено в человеке от рождения. В конце концов (в период перелома в мировоззрении) Толстой нашел определение «хорошего» в учении Христа, следуя которому человек выполняет «волю Бога». А вот ответ на вопрос, что такое (или кто такой) Бог, постоянно ускользал от писателя. Когда перелом в мировоззрении Толстого завершился, он перенес свои размышления на эту тему в дневник, а потом и в публицистику – так постепенно в печати стали появляться статьи, в которых писатель излагал свои взгляды на религию, веру, Бога и мироустройство: «Исповедь» (1882), «В чем моя вера?» (1884), «Царство Божие внутри вас» (1890—1891), «Не убий» (1900), «Закон насилия и закон любви» (1908), «Не могу молчать» (1908).
Читать дальше