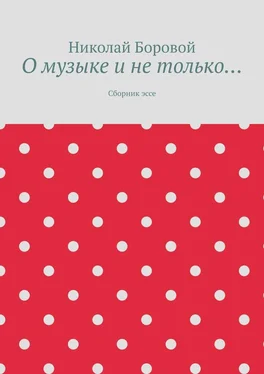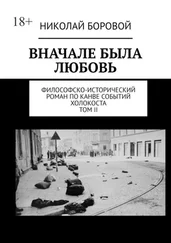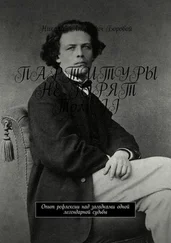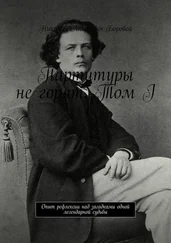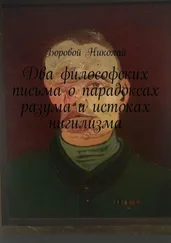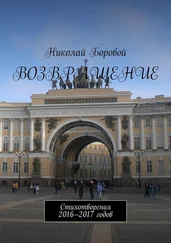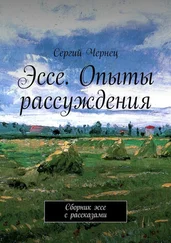Главная тема трио – символ и вдохновенный язык трагического ощущения смерти, вместе с которым «экзистенциальное» и «единичное» обретает подлинную, высшую и безусловную ценность, являющегося истоком нравственно-гуманистического опыта и любви к существованию и человеку. Лишь вместе с таким трагическим ощущением смерти как судьбы и неотвратимости, «единичное» и «экзистенциальное» обретает для человека высшую, безусловную ценность, на страже которой стоят его совесть и диктуемые совестью императивы, в отношении которой в человеке пробуждается нравственная ответственность, идентифицирующая его личность. Вместе с таким трагическим ощущением смерти человек приходит к осознанию и ощущению нравственной ответственности за дар существования, которым обладает, к суду над существованием и мгновениями настоящего с позиций личной совести – к тому, говоря иначе, что в основе связано с его личностным, духовным и созидательным началом. Речь идет о том, с пророческим экстазом и поэтически вдохновенно выраженном в музыке трагическом ощущении смерти, которое сделало Л. Толстого на изломе сорокалетия самим собой – глубочайшей в ее самосознании нравственной личностью и гениальным художником, побудило его к жертвенному творчеству и труду над собой, заставило его задавать вопрос «что же выйдет из всей моей жизни и этого ее мгновения?». Речь идет о том трагическом ощущении смерти, которое очеловечивает человека и пробуждает в нем личность, любовь и сознание нравственной ответственности за существование, делающие его способным на жертву в творчестве и труде над собой, на реализацию таящихся в нем и в самом существовании возможностей. В самом деле – глубина и правда ощущения трагизма смерти, надрывно трагическое ощущение ценности существования и любви к существованию, трепет перед неповторимостью существования и таящихся в нем возможностей, которые выражены в темах произведения, удивительно созвучны и родственны тем, которые проступают во многочисленных произведениях Л Толстого – от «Исповеди» и «Смерти Ивана Ильича» до повести «Холстомер». Эта музыка вдохновенно говорит о трагизме судьбы, в открытости которой, в восстании против которой, заключены достоинство и величие человека… Трудно найти музыку, которая в такой же мере была бы наполнена экстатичным, надрывным, с удивительной поэтической вдохновенностью выраженным ощущением безысходного трагизма смерти как судьбы, трагизма самой жизни, и потому же – ценности жизни, любви к жизни. Ведь только там, где во всей остроте и безысходности человек ощущает трагизм неотвратимой смерти, трагизм жизни, в которой ждет и назначена как судьба смерть, в отношении к жизни в нем начитают говорить любовь и трепет нравственной, созидательной ответственности – будто «камертон», чувство трагического обнажает перед ним ценность жизни, низложенную и «обничтоженную» в реалиях повседневного, в мерцании кажущихся несомненными химер, посреди «привычного» и «социально нормативного». Безразличный к трагедии смерти человек – это человек, который перестал быть собственно человеком, для которого загадочный и неповторимый дар бытия перестал быть подлинной ценностью, превратился в то, что можно прагматично и «разумно» использовать, принести в жертву химерам повседневного вместо того, чтобы служить ему как святыне. Правда в том, что вместе с трагическим ощущением смерти нас покидает ощущение жизни как святыни и ценности, к служению которой обязывают любовь, разум, совесть, о великая тайна – мы должны трагически ощутить жизнь и смерть для того, что бы в нас проснулась любовь и дар жизни стал для нас святыней. Мир, в котором смерть перестала быть трагедией – это мир, в котором человек перестал быть ценностью и превратился в вещь, в средство, а дар человеческой жизни – в материал политических и исторических авантюр, приумножения бессмысленного благополучия повседневности. Мир, в котором смерть и конечность человека перестали ощущаться как трагедия, вполне способен сгноить, уничтожить миллионы жизней и судеб на полях сражений, в буднях великих индустриальных проектов, принести их в жертву абстрактным идеалам социального прогресса и грядущего всеобщего счастья. Потому что человек, его жизнь и судьба есть для такого мира ничто – пронизанный иллюзией прогресса и сверкающим комфортом повседневности, заботой о человеке и его правах, на деле этот мир являет собой торжество самого дьявольского нигилизма, ибо человек низведен в нем до положения вещи, отданной в безраздельную власть забвения, времени и небытия. Потому что в этот мир человек приходит для того, что бы временить перед неотвратимой бездной, разменять дар бытия и его мгновения на статистически благополучную и безликую судьбу, приумножение вещей и обладание ими, но вовсе не для того, что бы величием творчески и духовных свершений попрать смерть и судьбу, ее власть. По сути дела, мир прогресса обрекает нас на ожидание небытия и уничтожения, по пути к которым нам дано использовать цепь быстротечных мгновений, наслаждаться временением над бездной и тем комфортом повседневности, в котором цивилизация видит свое главное завоевание. Безраздельное торжество над человеком времени, забвения и небытия предстает нам как «жизнь», мы называем этим словом карнавал над бездной, экстатическую пляску счастья и наслаждения на тоненьком, протянувшемся над бездной канате. Приучая человека наслаждаясь, безразлично использовать жизнь, цепь быстротечных мгновений перед бездной смерти, помещая перед его глазами химеру повседневного комфорта в качестве высшей цели и ценности, мы не заметили, как человек, его жизнь и судьба перестали быть ценностью и святыней, превратились в «ничто». Повергая человека в безраздельную власть над ним небытия и забвения, превращая его бытие и судьбу во временение перед бездной смерти, стоит ли удивляться, что сам дар бытия превращается для человека в «ничто», в проклятие и зло, и миллионы людей расправляются с мучительной ношей бытия на полях кровавых сражений, умирая и убивая во имя абстрактных лозунгов и идеалов? Когда бытие превращено во временение перед уничтожением и уходом в небытие, и человеку предлагается удовлетвориться «еще-не-смертью» – может ли бытие обладать для него смыслом и ценностью? Наверное – нет. Приучая человека строем и способом его существования быть безразличным к смерти, делают человека безразличным к дару бытия, которым он обладает, таковой просто перестает быть для него подлинной ценностью, превращается для него в «ничто». Причем наиболее страшно здесь то, что в «ничто» дар неповторимого человеческого бытия превращен тем типическим, нормативным для массы способом существования, который современный мир «благополучия» и прогресса» навязывает человеку как довлеющий над ним, зачастую необоримый рок. Там, где нет вечности, где над всем властвуют смерть, забвение и время, не может быть и смысла, торжество смерти и временности становится безраздельным торжеством пустоты, и миллионные массы в масштабных исторических движениях отрицают бытие, которое предстает им как бессмыслица и зло. Поразительно, но там, где смерть и конечность человека перестает быть трагедией, единичный человек, его бытие и судьба перестают быть ценностью, святыней, превращаются в «ничто». Власть над человеком смерти, застывшая в типическом и нормативном способе существования человека, в реалиях его судьбы в мире «прогресса» и «всепоглощающего комфорта», безразличие к трагедии смерти, де факто залегшее в основаниях культуры как целостной вселенной человеческого существования, обернулись «обничтожением» и «десакрализацией» человека, некой фундаментальной обесцененностью существования и человека, пронизывающей «будни», самые «привычные» и «позитивные» реалии его существования, и с инфернальной символичностью проступающей в вихрях исторических катастроф. Пронизанный безразличием к смерти, мир прогресса и всеобщего благополучия превратился в комфортный и сверкающий ад, в котором человек отдан в безраздельную власть небытия и забвения, в котором смерть и абсурд глумятся над человеком карнавалом мгновений, бесследно растраченных на приумножение и использование комфорта. Принуждая человека существовать так, будто смерти нет, будто ни в самой смерти, ни в неумолимом движении к ней нет ничего трагического, а заключен лишь естественный и необратимый ход вещей, которому человек должен быть покорен как своей природе и судьбе, приучают человека относиться к дару бытия как к «ничто», фактически превращают бытие и судьбу единичного человека в «ничто». По сути дела, мир «комфорта» и «прогресса» не оставляет места для человечности человека, ибо дух и любовь в человеке, его человечность, побуждают его восстать против смерти. Где же, в чем человеку найти опору в его сомнениях и борениях, в заполняющем его отчаянии бодрствующего разума, с кем и в чем ему разделить те трагические мгновения, в которые ему становится очевидным, что нет ничего более бесчеловечного и чудовищного, нежели его обреченность на безразличное ожидание смерти?
Читать дальше