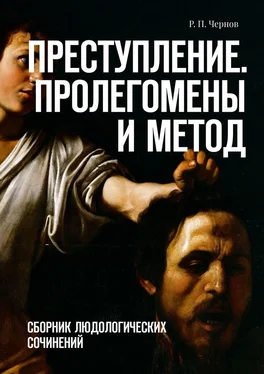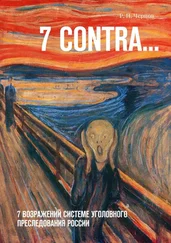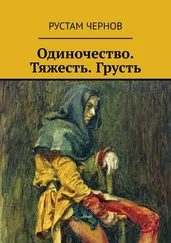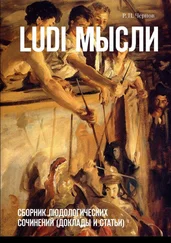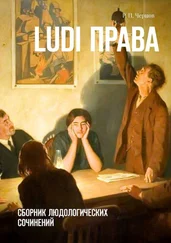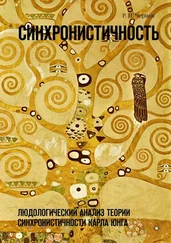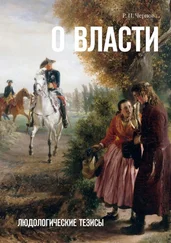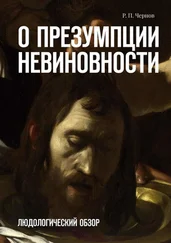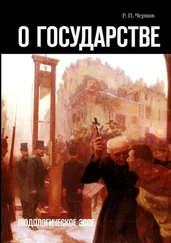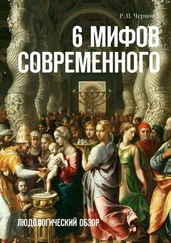Замкнутость парадигмы бытия (единение возможного и действительного) достигается по мнению некоторых авторов как форма синкретичного взаимодействия субъективного и объективного (Гегель), однако, данное положение в современных условиях не соответствует действительности.
Действительно, в то время, когда мораль несла содержательную нагрузку целевых причин структурирования явлений вне зависимости от их субъекта можно было говорить, что индивидуум, пренебрегающий формой персонификации в должных отношениях (норма), отрицал императивные законы общества, тем самым подменяя их в рамках чувственной перцепции («здесь и сейчас») собственно – личным бытием в возможности, которое в дальнейшем восприятии квалифицировалось, как девиация и соответственно каралось (исправлялось в тех же рамках «здесь и сейчас» – лишение свободы и прочее).
Сегодня потоки обмена информацией (то, что называется информацией) таковы, что нельзя говорить о том, что чувственно – воспринимаемые предметы являются формой фиксации (материальными носителями) бытия в возможности, которое увязано с их предназначением по целевой и другим причинам. Сегодняшний день демонстрирует нам разобщенность форм бытия разных явлений, при этом глубина отчуждения продиктована изолированностью сфер бытия значения.
Таким образом, субъективная целевая причина субъекта преступления и субъекта оценки -государства, в лице правоприменителя, – коренным образом не совпадают, поскольку сама разобщенность государства (как бытия в действительности права, при том, что право – бытие в возможности государства) и бытия субъекта преступления разведены изначально, – человек живет в кругу сплошного лавирования между законностью и ее формой дублирования. Там, где правовые нормативы, выражены более четко, создана вторая действительность, структурируемая в соответствии с ее законами – организованная преступность, фактически новая общественно – экономическая формация.
В конечном счете, можно говорить о том, государство не вправе накладывать ответственность за совершение преступления, так как оно уже не может гарантировать, что само преступление является нарушением формы гармоничности общественных отношений. Наоборот то, что считается преступлением в некоторых случаях может быть отнесено на счет формирования новой гармонии общества (например, декриминализации предпринимательской деятельности в Новой России в начале 90-х годов ХХ века).
К тому же государство является заложником тех установок, которые составляют идеологическое содержание политики. Если политикой государства является правовое содержание позитивного права, то это еще допустимая форма стабилизации, если же мы говорим о политике как о динамической форме оценки явлений текущей действительности, то неизбежно увеличение зазора межу должным и действительным, где уголовная ответственность лица служит формой прикрытия данного «зазора». Именно так устранялись ошибки логики «военного коммунизма» – посредством устранения носителей здравого смыла (тогда уже старого).
Более того, если до возложения уголовной ответственности содержание целевой причины преступника «по случаю» было легко исправляемой девиацией, то после актуализации на нем внимания государства, прохождения пенитенциарной системы, оно становится формой восприятия мира (маска «осужденный», двойная жизнь осужденных в исправительных учреждениях и прочее). Таким образом, происходит переход из разряда случайного в сферу профессионального (при пассивном реагировании), а в некоторых случаях и организованного. Таким образом, система воспроизводит, сама того не желая, врагов общества.
В макроракурсе такая ситуация грозит не только чудовищными социальными катаклизмами, но и простой переоценкой ценностей в форме их замены в ходе смены содержания позитивного права (упрощение права, жизнь «по понятиям»).
Следует совершенно по – новому отнестись к проблеме формирования понятия преступления. Но это нельзя сделать на основе старых представлений о преступлении. Скрещивание наук так же не дает положительного результата, кроме как формирования гибридов познания, отражающихся на практике недееспособностью теории. Методология познания должна быть универсальной. При этом анализ, изложенный выше, – лишь часть абстрактной формы алгоритма познания, который необходимо пройти на пути формирования понятия преступления, способного стабилизировать отношения уголовной ответственности не в рамках смехотворных 20—30 лет, когда Уголовный кодекс по своей сущности ретроспективно устремлен в будущее (законодателю кажется, что нормы Уголовного закона отражают действительность дня сегодняшнего и завтрашнего), а на основе гибкой, четкой системы познания, приемы которой ясны и отчетливы таким образом, что у любого субъекта познания не возникает противоречий относительно ее содержания. Это первичный залог согласованности устранения противоречия субъективной целевой причины и объективных представлений о ее содержании. Именно тогда можно будет говорить о том, что мы знаем, что такое преступление, а не навязываем его представление неограниченному кругу лиц посредством государственного аппарата принуждения.
Читать дальше