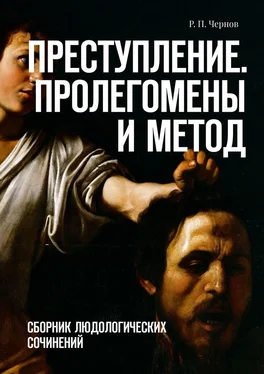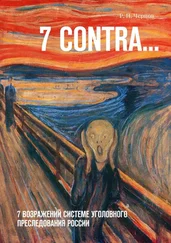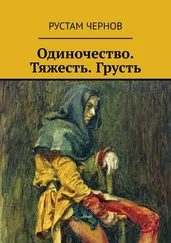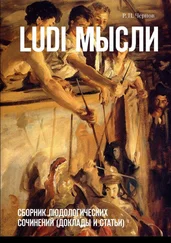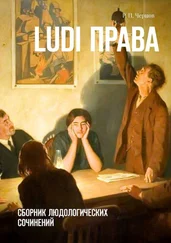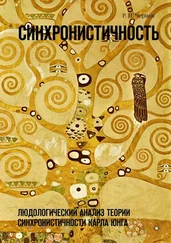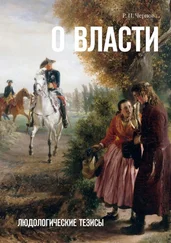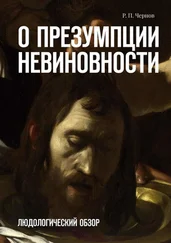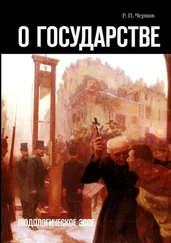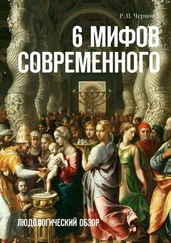Следует признать, что руководствоваться в квалификации конструкцией Аристотеля намного выгоднее, чем конструкцией состава преступления, если, конечно, придерживаться того тезиса, что уголовно наказуемыми являются реально существующие явления в форме действительного, а не идеальные объекты (планы, мысли, намерения). Оторванность и искусственность состава преступления есть последствие систематизации и канонизирования ряда уступок, допущенных при его структурировании в угоду политической воле. Не забудем о том, что за каждым приговором суда стоит конкретный человек, действия которого осуждены государством и, если этот человек доверяет государству осуждать себя, то он имеет право, как минимум, на законность своего осуждения и разумность закона, а как максимум – на мудрость судьи. В идеале последний должен получать мудрость не из доктринальных источников и теоретических конструкций (каковым и является состав преступления), а непосредственно из закона (закон, право как форма познания).
Смысл конструкции четырех причин состоит в том, что реально существует только то явление, которое содержит в себе все четыре причины, определяется ими в своей сущности как именно данное явление. Этот вывод продуцирован Аристотелем из конструкции идеального и реального (бытия в возможности и бытия в действительности), которые располагаются определенным образом относительно причин. Именно поэтапный анализ восхождения от целевой причины к материальной и может служить основанием для того, чтобы определить, что является и существует только как идея (бытие в возможности), а что является реальным бытием, явлением.
То же самое можно сказать и в отношении преступления. Если мы исходим из того, что преступление – это социальное явление, деяние, то преступлением может быть только то, что имеет в своей основе четыре причины бытия, соответственно, существует в области действительного, а не предположения о существовании в действительном власть придержащего лица, пусть даже это предположение и сделано в законодательной форме.
Однако современная конструкция состава преступления позволяет подвергать уголовному преследованию за мысли и намерения (например, ч. 1 ст. 209 УК РФ), структурировать конкретные составы преступления таким образом, что на их основе возможно подвергать уголовному преследованию за любое деяние (ст. 330 УК РФ). Положения ст. 8 УК РФ находятся в явном противоречии с нормами процессуального права (в ст. 140 УПК РФ речь идет о признаках преступления), они легализуют необходимость законодательной криминализации, не давая при этом никаких сдерживающих механизмов методологического характера, одновременно оправдывая любые репрессии, возможность которых будет законодательно закреплена . Если демократия не сложилась как норма приличия, то для ее создания недостаточно провести выборы в парламент.
В итоге преступлением признается не то, что уничтожает бытие государства (при том, что право – это бытие в возможности государства, а государство – бытие в действительности права) в рамках «здесь и сейчас», а то, что названо уголовным законом как преступление. Формой познания преступления является исключительно текст закона, граждане и само государство лишены возможности внепозитивисткого анализа преступления. Эта методология лежит уже за пределами методологии, как Платона, так и Аристотеля, являясь воплощением в жизнь древнейшего мифологического принципа: «существует только то, что названо», а следовательно, не подчиняется ни законам ratio, ни законам идеала как высшей формы и предельности познания. По сути так оно и есть сегодня. Существует каста «жрецов», называющих что-то преступлением (Федеральное Собрание и Президент) и каста сведущих (наша титульная доктрина), которые исходя из интересов божества, именуемого государством, называют преступления, вводя описание этого в уголовный закон. Прав был Гегель: если Бог и существует, то этот Бог – государство.
Но прав был и В. Соловьев – государство необходимо не для того, чтобы сотворить рай на земле, а для того, чтобы не допустить ада земного.
Проблема квалификации преступления носит глубоко гносеологический характер. С учетом того, что бесспорно можно подчиняться только разуму, возникает вопрос: каким образом должно быть структурировано представление о преступлении, при том, что идеальной задачей привлечения к уголовной ответственности (включающей в себя наказание) является исправление? Очевидным является то положение, что реализация государством принуждения в отношении преступника должна доказать последнему и обществу неправоту преступного поведения. Возможно ли это, если само представление о преступлении, реализованное в рамках текста уголовного закона, является вымышленным, придуманным искусственно, т.е. противоречит законам организации социальной материи? Является замкнутым на методологию, доступную и оправдываемую в рамках самого же правоприменения, базирующегося на данной методологии (конструкция состава преступления)? Думается, ответ будет отрицательным. Впрочем, последователей Платона это не беспокоит (идеальное государство Платона: аристократы, стражники, рабы плюс торговцы под вопросом). Однако гносеологический опыт идейного вдохновителя и наставника Александра Македонского видится более перспективным для построения демократии западного типа.
Читать дальше