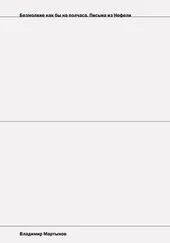«И как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чаю бисквита, которым меня угощала тетя (хотя я еще не понимал, почему меня так обрадовало это воспоминание, и вынужден был надолго отложить разгадку), в то же мгновенье старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тетиной комнаты, пристроился, как декорация, к флигельку окнами в сад, выстроенному за домом для моих родителей (только этот обломок старины и жил до сих пор в моей памяти). А стоило появиться дому – и я уже видел городок, каким он был утром, днем, вечером, в любую погоду, площадь, куда меня водили перед завтраком, улицы, по которым я ходил, далекие прогулки в ясную погоду. И, как в японской игре, когда в фарфоровую чашку с водою опускают похожие один на другой клочки бумаги и эти клочки расправляются в воде, принимают определенные очертания, окрашиваются, обнаруживают каждый свою особенность, становятся цветами, зданиями, осязаемыми и опознаваемыми существами, все цветы в нашем саду и в парке Свана, кувшинки Вивоны, почтенные жители города, их домики, церковь – весь Комбре и его окрестности, – все, что имеет форму и обладает плотностью – город и сады, – выплыло из чашки чаю».
4
Столь обширную цитату я решился привести, во-первых, потому, что этот медитативный текст, мне кажется, можно перечитывать и переписывать бесконечно, а во-вторых, потому, что при попытке описания всего случившегося со мной в то утро в Петраково мне бы не хотелось заново изобретать велосипед. Зачем описывать то, что было описано уже давным-давно, и притом самым наилучшим образом? Ведь под воздействием услышанной мною песенки зяблика в моем сознании произошло практически то же самое, что произошло в сознании Пруста под воздействием вкуса бисквитного пирожного. Так что, не обременяя себя и других лишними описаниями, я ограничусь лишь тем, что квалифицирую произошедшее со мною тем утром как казус Пруста, или, если быть точнее, как эффект бисквитного пирожного Пруста. Однако, несмотря на почти буквальное совпадение исходной ситуации, конечные результаты воздействия этого эффекта на меня и на Пруста оказались в корне отличными друг от друга. В случае Пруста процесс поиска утраченного времени происходил еще в том же самом мире, в котором оно было утрачено, а потому утраченное время еще могло стать обретенным временем, воплотившись в тексте прустовской эпопеи. В моем же случае утраченное время было утрачено в том мире, которого больше нет, и для того, чтобы обрести утраченное время, мне нужно было снова попасть в тот мир, в котором оно было утрачено, в тот мир, которого больше нет и в который невозможно возвратиться. В этом смысле моя ситуация представляется мне гораздо более острой, драматичной и безнадежной, чем ситуация Пруста. Если в случае Пруста вкус бисквитного пирожного всего лишь воскрешал в его сознании зрительные образы воспоминаний, то в моем случае голос зяблика, выполняющий функцию прустовского пирожного, с какой-то беспощадной наглядностью являл мне тотальную несовместимость воскрешенных им зрительных образов воспоминаний со зрительными образами окружающей меня действительности.
В свое время Пруст задавался вопросом: «Зачем приходить под эти деревья, если никого уже не осталось из тех, что собирались под их нежными багряными листьями, если пошлость и глупость заменили все пленительное, что эти листья некогда обрамляли?» И на этот вопрос можно было бы ответить следующим образом: «Пусть никого уже не осталось из тех, что собирались под этими деревьями и под их нежными багряными листьями, пусть пошлость и глупость заменили все пленительное, что эти листья некогда обрамляли, но остались еще эти деревья и эти листья, которые могут предоставить приют ожившим воспоминаниям о том, что происходило некогда под их сенью. Они залог того, что утраченное время может обрести прибежище в настоящем». Но что делать, если нет уже ни этих деревьев, ни этих листьев? Что делать, если утраченным оказалось не только время, но и пространство? Что делать, если больше нет такого места, в котором утраченное время могло бы стать обретенным? Что делать, если воспоминания, поднимающиеся из глубины моего сознания, при соприкосновении с образами окружающего меня пространства рассыпаются в прах?
Вот я чувствую, как глубинные воспоминания, несущие в себе образы Звенигорода моего детства, уже готовы прорваться наружу, но от них не остается и следа в тот самый момент, когда, оказавшись в окружающей меня данности, они наталкиваются на пень – на то, что осталось здесь от спиленной липы Чехова, под сенью которой мы играли с Варей, а тетя Зина читала книжку, сидя на чеховской скамейке. Или вот я чувствую, как из глубины моего сознания прорываются наружу воспоминания и образы привольных далей Подмосковья, но и от них не остается и следа, как только они наталкиваются на трехметровые зеленые заборы, перегородившие здесь все вдоль и поперек. Что же касается таящихся во мне воспоминаний о московских улицах, то и они разделяют общую судьбу, ибо, прорвавшись наружу, они тут же вдребезги разбиваются, ударившись о собянинскую плитку. Вообще, Собянину удалось так испохабить Москву, как никакому Лужкову даже и не снилось. Наверное, жить в Москве стало гораздо удобнее, комфортнее и безопаснее, чем раньше, и, скорее всего, это действительно так, но лично для меня Москва перестала быть моей Москвой. Москва превратилась для меня в навеки утраченное пространство, которое никогда уже не станет обретенным. Она превратилась для меня в пространство, в котором уже невозможно жить и в котором можно только существовать. Откровенно говоря, я уже давно смирился со всем этим. Я смирился и с этой собянинской плиткой, превратившей центр Москвы в какую-то мертвецкую, и с этими трехметровыми заборами, перегородившими все Подмосковье, и с этим пнем, бесцеремонно напоминающим мне о конце времени русской литературы. Я не просто смирился со всем этим – я стал относиться к этому как к чему-то само собою разумеющемуся, как к чему-то такому, что всегда было, есть и будет. Я свыкся с миром, в котором утраченное время и утраченное пространство никогда уже не будут обретены вновь, как свыкся и с мыслью о том, что до конца своих дней мне придется жить именно в таком мире. Но тем утром в Петраково все изменилось, и я проснулся совсем в другом мире – в мире, в котором воскресает все забытое и обретается все утраченное. И это оказалось чем-то более чудесным и удивительным, чем ситуация, описанная Прустом.
Читать дальше


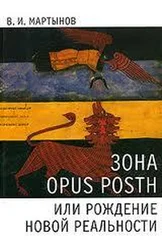


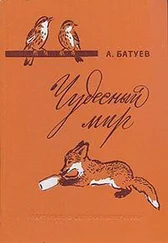
![Владимир Владко - Чудесный генератор [Научно-фантастическая повесть]](/books/399153/vladimir-vladko-chudesnyj-generator-nauchno-thumb.webp)