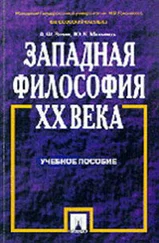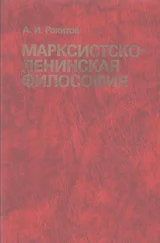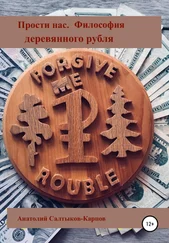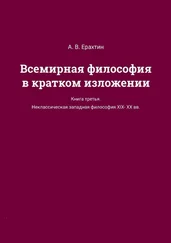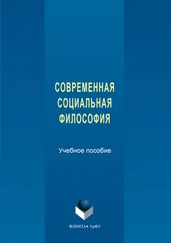Анатолий Зотов - Современная западная философия
Здесь есть возможность читать онлайн «Анатолий Зотов - Современная западная философия» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Современная западная философия
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Современная западная философия: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Современная западная философия»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Современная западная философия — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Современная западная философия», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Это значит, что Ego просто-напросто тождественно вопрошанию, его бытие и есть вопрошание о бытии. А поскольку вопрос всегда есть вопрос о чем-то, то на свет Божий вместе с бытием появляется нечто сущее (или, используя термины самого Хайдеггера как более адекватные, вместе с Dasein появляется eines Seiendes). Так мало-помалу испаряется метафизический компонент картезианства, непременно сопровождающий также любую теорию познания, предпосылкой (и именно "метафизической" предпосылкой) которой является разделение "опыта" на субъект и объект, которое абсолютизируется. Ученый (прежде всего, конечно, естествоиспытатель), осваивает свои объекты, создавая "экспликативные представления" о них; он занимается исследованием сущего как "объективной реальности"; он открывает нечто, а не создает его. Соответственно он озабочен тем, чтобы удостовериться, что его предмет существует "на самом деле", что он есть нечто сущее [5]. Соответственно истина здесь - достоверность представления.
1 Рикер П. Конфликт интерпретаций. С. 345.
2 Там же. С. 346 - 347.
3 Напомню тезис Хайдеггера "Язык есть дом бытия".
4 Рикер П. Конфликт интерпретаций. С. 348.
5 Русский перевод на с. 351 - 354 совершенно некорректен. В частности, цитату из Хайдеггера, приведенную на с. 352, следует читать так: "Там, где мир становится Bild, целостность сущего понимается как то, на что человек может ориентироваться и причиной чего он хотел бы быть, иметь это нечто всегда перед собой, надеясь удержать его как представление". Кстати, я изменил в предлагаемом переводе только одно слово.
Такова была эпоха, когда мир (в смысле Хайдеггера) выступал в качестве "образа" (или "отражения"). В концепции рефлективности
773
Декарта Я - это в буквальном смысле "субъект", "первичное и реальное основание" всего сущего: как иначе возможна была бы картезианская дедукция "внешнего мира"?! Если это иметь в виду, то можно согласиться с тезисом, что у древних греков не было Cogito, поскольку человек "не смотрел на мир" как на внешний ему объект; он сам существовал "внутри" этого всеобъемлющего сущего. И потому "Cogito не является абсолютом; оно принадлежит определенной эпохе, эпохе "мира", понимаемого как представление и как образ" [1].
Теперь понятна следующая метафора: человек "...сам себя полагает в качестве сцены, на которой отныне сущее (вовсе не "бытийствующее", как в переводе! - А. 3.) должно представлять, предъявлять себя; словом, делаться образом" [2].
Специфическое сущее, которое у Декарта обозначено термином Cogito, обладает особым способом бытия - существованием, или, точнее, экзистенцией. Оно уже не отделено "гносеологической пропастью" от остального сущего, хотя сохраняет свою особость: ведь вопрос, который может быть поставлен об этом сущем, - не "что это?", а "кто это?". И особенность, притом принципиальная, этого вопроса состоит в том, что он, во всяком случае, для рефлектирующего человеческого сознания "навсегда остается вопросом". (В отношении других людей ответ на него может быть дан только после того, как человек умрет.) Оценка, которую можно дать человеку в ситуациях его повседневной жизни (например, что он отличный повар, или что он нечестный бизнесмен), касается его "неподлинного существования". "Подлинное" человека раскрывается, даже если сам человек этого не желает, в его языке, в "говорении", в "именовании" своих предметов с помощью слова. Язык выдает человека, потому что, в конечном счете, он самобытен. И потому он позволяет другим людям судить об этом человеке [3]. Таково, согласно Рикеру, главное содержание вклада Хайдеггера в герменевтическую проблематику.
1 Рикер П. Конфликт интерпретаций. С. 353.
2 Там же.
3 Даже штампованный язык политика или бюрократа - вовсе не аргумент против этого тезиса: это лишь свидетельство ограниченности его как личности.
И все-таки основания герменевтики не складываются из вышерассмотренных компонентов современной философской мысли - психоанализа и структурализма. Как мы могли убедиться, обе эти философские концепции заряжены тенденцией к "изничтожению" сознания в качестве суверенного. Психоанализ, открыв сферы "бессознательного"
774
и "пред-сознания", превращает "индивидуальное" сознание, данное в саморефлексии, только в "симптом", в нечто равноправное с другими образованиями жизни, с "другими системами", регулирующими наши отношения с реальностью. Бессознательное лежит более глубоко, чем сознание; первое определяет второе; его исследование выводит за пределы индивидуальности Я, к родовому началу и социальности. Человеческое Я несуверенно, у него есть "хозяева", которые "спорят друг с другом" о мере своего влияния на индивида - это "сверх-Я", Оно и Реальность. И эта констатация, в общем, по мысли Рикера, справедлива. Абстрактного, изначального, стоящего вне жизни, суверенного Я как субъекта и в самом деле не существует.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Современная западная философия»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Современная западная философия» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Современная западная философия» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.