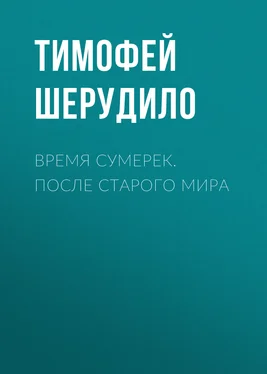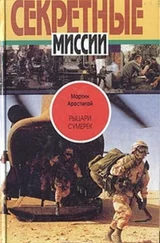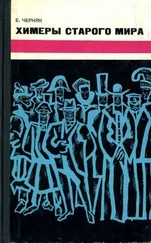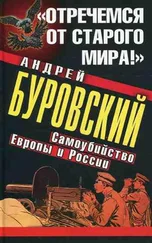Христианство – мироотречно. Мироотречность его – от обиды на мир, в котором всё дается или временно, или под условием. Как не обидеться на двусмысленные дары и недоброго дарителя? Обидевшись, не отказаться от всех его приманок? Возможен, однако, и другой взгляд: духовная жизнь, и вообще жизнь, – приключение , а не покой, и было б неблагодарно отказываться от возможности это приключение пережить…
Но вернемся к Родиону Романовичу и его речам. «Старый мир» был всё же богат и велик – не потому ли, что «морален»? Напротив, – ответит Родион. Естественным препятствием на пути выработки слабой, готовой к подчинению личности (дело, которое впоследствии так удалось большевикам, в своем роде насаждавшим ту же мораль «отвлеченных целей»), были кипевшие в прежнем обществе страсти, унаследованные из внеморальных (вернее, внехристианских) источников.
Плодотворная, богатая жизнь обогащается парадоксальными истинами христианства, но не питается ими исключительно. Христианство хорошо там, где свет его падает косо, а не прямо. Говорить: «христианская культура породила Пушкина и Чайковского» – неправильно. Будь они вполне и только христианами, их гениальности было бы нечем питаться.
Чтобы жить под солнцем – любить, желать, жалеть, стремиться, – нужно быть чем-то еще, кроме «доброго христианина». А уж тем более, чтобы жить творчеством. В действительности Пушкина и Чайковского породила богатая и сложная культура, основанная на принуждении внутреннего человека, строгой выправке личности, высших формах внутреннего порядка – со всеми подспудными напряжениями и подпольными бунтами, свойственными этим формам.
Целые области жизни в Старом мире, как я уже говорил, или прямо наследовали язычеству (искусства, военное дело, государственное строительство 8), или питались могучими мирскими желаниями (брак), – несмотря на выхолащивающее влияние морали, выраженной Розановым в знаменитой формулировке: «мы не посягаем, говорят старцы, и кушают кашку». Церковь была островом, на котором личность могла отдохнуть от житейских стремлений, но сила этого острова была в ограниченности его размеров.
Трудно, – признался бы Раскольников, – оценить значение христианства для личности, потому что оно дает душе иго – и одновременно динамит для его разрушения. Его жизнь – в движении от устойчивости к разрушению и назад. В одном только христианство постоянно: в отвращении ко всем вещам, которых можно достичь. Оно для тех дней, когда сделать ничего уже нельзя; для минут, когда жизнь остановилась…
Уединенному сердцу есть что вычитать в Нагорной проповеди, но всякое желание полноты жизни по определению неблагословимо христианством. Весь мир «страстей», достижимых целей, горения ума и чувства находился в прежние времена вне церковного понимания жизни – и эту жизнь питал; и сам, в свою очередь, питался звонким напряжением между долгом (христианской дисциплиной души, «нельзя» вместо «хочу») и требованиями жизни (пламенем страстей в самом широком смысле, от честолюбия до эротических устремлений). Это напряжение (о чем писал еще Ницше) и придает неповторимую остроту культуре Старого мира (последних веков христианской эпохи).
В войне 1914—1918 этот мир сгорел. От европейца больше не требуют каждодневного напряжения сил в борьбе с самим собой; свободу он оплатил творческим даром. На очереди – или растворение личности в море бесконечной (то есть неспособной к формообразованию) свободы; или подчинение новому бремени (следующему «единственно-верному мировоззрению» светского или религиозного толка); или (самое трудное и маловероятное) поиск пока не найденного сочетания высшего развития и полноты жизни .
XII. Время сумерек
1
Наше время относится к христианской эпохе, как вечерние сумерки к дню. Христианство уходит за горизонт; надо судить о нем, пока оно не скрылось совсем. Мы достаточно рядом, чтобы чувствовать его теплоту и величие; мы достаточно далеки, чтобы понимать, что христианство не синоним религии, но только одно из возможных пониманий жизни и божественного.
Некоторым нравится думать, будто эти сумерки – последние. «Войны и военные слухи» пугают, вера в скорый конец успокаивает умы. Даже больше: христианину необходим Апокалипсис. История, не имеющая огненного конца, кажется ему бессмысленной. Однако история – не отмеренный по линейке отрезок. Она больше похожа на совокупность отрезков, вписанных в круг. Отрезки – отдельные культуры; круг – общечеловеческие способности во всей их полноте. Каждая из культур развивает человеческую природу в своем направлении до доступного ей предела. Совокупность таких путей образует всеобщую историю. Все они когда-то прерываются, но концы их – события не мировой истории, а частной.
Читать дальше