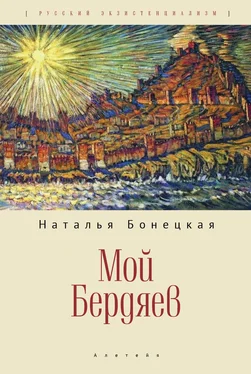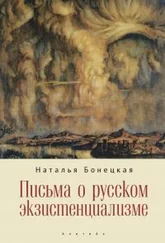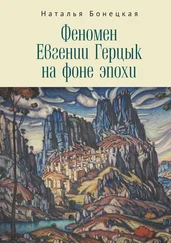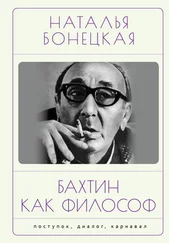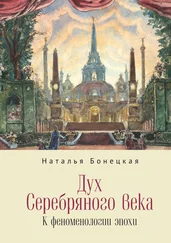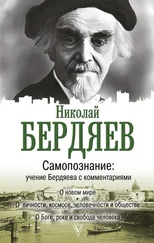Подобно Шестову и Иванову, Бердяев считал себя самого продолжателем дела Ницше. Если Шестов искал встречи с Богом на пути, указанном Ницше, а Иванов поклонялся Дионису, которого Ницше «воскресил», но не почтил как бога, то Бердяев на расчищенном Ницше от обломков старых ценностей месте начал закладывать фундамент новой «религии Богочеловечества» – апокалипсического христианства. «Я мог принять и пережить христианство лишь как религию Богочеловечества» [35] Бердяев Н. А. Самопознание. С. 165.
, – заявил в своем итоговом труде Бердяев, открыто указав преемство своих идей по отношению к В. Соловьеву. Не менее сильная зависимость Бердяева от Ницше в глаза все же не бросается, и наше небольшое исследование призвано как раз ее выявить. «Богочеловечество» Соловьева – Бердяева – та самая альтернатива, которую в «Смысле творчества» выдвинута навстречу «сверхчеловечеству» Ницше. Суть религиозно – философского задания Бердяева – обоснование человеческого богоподобия, и, как мы увидим, «человек» «Смысла творчества» – это герой, полубог или, несколько видоизмененный, все тот же «сверхчеловек» Ницше. Свою теорию Бердяев именует «христологической антропологией», усматривая в ней новое религиозное откровение, себя же позиционирует (вполне, впрочем, ненавязчиво, хотя и прозрачно) в качестве его адепта, пророка.
И именно в силу того, что себя Бердяев видит также в качестве «первенца» – зачинателя «религии Богочеловечества», он – быть может, не до конца всерьез – примеривает и к себе роль жертвы. Сознавая, что он становится на духовно рискованный путь – восстает против веры отцов, Бердяев, кажется, готов нести за это ответственность перед Высшей инстанцией. Бердяевская экзистенциальная позиция неустойчива, неопределенна: «… У меня бывают мгновения, когда приходит в голову кошмарная мысль, что они, ортодоксы, мыслящие отношения между Богом и человеком социоморфически, как отношения между господином и рабом, правы, и тогда все погибло, погиб и я» [36] Бердяев Н. А. Самопознание. С. 193.
. Бердяев верил в ад и считал, что Ницше попал в ад, – при этом он хотел, взяв на себя Ницшеву муку, освободить его из ада; так далеко простирались его благодарность и сочувствие к Ницше [37] См.: Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 448.
. Однако в вечность ада Бердяев не верил, – считал евангельскую мысль о вечных адских муках «экзотерической» и вульгарной, «сказкой для детей». Характер его философствования не в последнюю очередь был обусловлен именно этим неверием. – Думается, что об аде Бердяев рассуждал, ориентируясь на теософские и антропософские представления о человеческом посмертии. Ад – это переживаемое человеком после смерти «кошмарное сновидение» [38] См.: Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 436.
– камалока теософской традиции, у Бердяева лишенная однако объективности. От адского «сновидения» надлежит «проснуться», выйдя за пределы психологии в «сверхсознание» духовной жизни. Бердяев разработал очень крепкую концепцию небытийственного, преходящего ада, однако элемент неопределенности в ней все же остается и потому у ее сторонника остается и возможность для проявления героического риска.
Итак, Бердяев выдвигает императив «жертвы дерзновения» , призванной в апокалипсическую «творческую эпоху» занять место «жертвы послушания» уходящей эпохи искупления: «Христос Грядущий никогда не явится тем, которые сами в себе свободным усилием не раскроют иного, творческого образа человека» [39] Бердяев Н. А. Смысл творчества. С. 337.
. Основной отныне должна сделаться «добродетель небезопасного положения» – положения «человека над бездной», как проницательно обозначила Евгения Герцык антропологическую ситуацию, проблематизированную в сочинениях Шестова [40] См.: Герцык Е. Воспоминания. С. 104.
. Экзистенциалист Бердяев в точности следует своему предшественнику по экзистенциализму и ницшеанцу, когда прославляет «способность бесстрашно стоять над бездной» и зовет к «подвигу решимости оттолкнуться от всех безопасных берегов» [41] Бердяев Н. А. Смысл творчества. С. 337.
. Странно, что Шестов не распознал в бердяевском «апофеозе творчества» собственного «апофеоза беспочвенности», усмотрев в «страстном восстании» Бердяева против ценностей культуры исключительно ориентацию на Ницше. Помимо того не недавний ли марксист говорит в Бердяеве, заявляющем, что «на пути к Новому Иерусалиму» – пути «жертвенном» – «должна сгореть дотла» «вся старая цивилизация» (там же, с. 497)? Весь мир должен быть разрушен «до основания, а затем…» [42] Цитата из гимна «Интернационал».
Затем, по Бердяеву, «Новый Иерусалим сойдет с неба на землю» (там же). Книга «Смысл творчества» несравненно более революционная, чем труды основоположников марксизма, – подрывающая сам духовный фундамент христианской Европы, отвергающая уже не экономический «базис», а ее святыни… Последовательность глав книги – это цепь теоретических бердяевских жертв – «жертв безопасным положением», «жертв дерзновения»: «героическая жертва» послушанием в проектируемой Бердяевым «дионисической» морали восхождения (с. 461), отречение от «ветхой общественности», долженствующее стать «коллективной жертвенностью» (с. 489); «жертва безопасным уютом исторической бытовой церковности» ради «небезопасного» творчества в мистике и магии (с. 530, 518) и т. д. Во всем этом – утрата чувства реальности, смытого напором безответственного романтизма, – неслучайно сам Бердяев ощущал себя прежде всего «человеком мечты» («Самопознание», с. 169). Призывать других жертвовать собой во имя провозглашаемых им идеалов можно было, только пребывая в состоянии зачарованности «жертвой» Ницше – фигуры роковой для судеб не только Германии, но и России.
Читать дальше