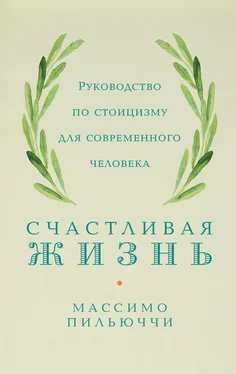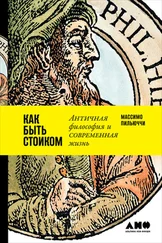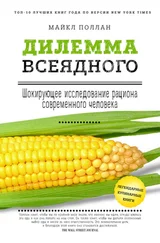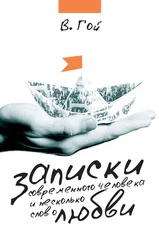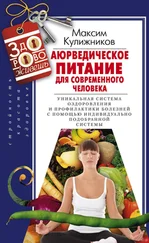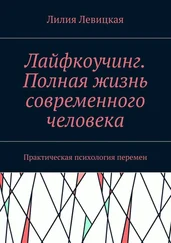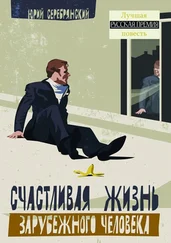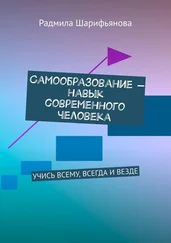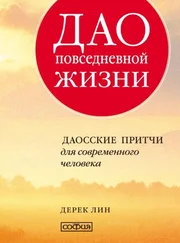ТЕМА 6. МЕСТНЫЕ ОБЫЧАИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕОБЩИМИ И НЕИЗМЕННЫМИ
Годы жизни Эпиктета пришлись на период между концом I и началом II века. Всезнайкой он не был – то есть, как и все мы, оставался человеком своего времени и своего места. Тем не менее главную ценность его философии представляют универсалистские идеи, касающиеся человеческой природы, а не те или иные специфические и партикулярные взгляды, усвоенные или разделяемые им только потому, что он был римским гражданином имперской эпохи.
Именно из-за ограничений времени и места мы нуждаемся в переоценке некоторых приводимых Эпиктетом примеров и даже отдельных его этических предписаний. Так, он часто рассуждает об институте рабства (напомню, что рабом был и он сам!) как о нормальной части жизни [37] Например, Энхиридион 12, 14, 26 и 29.
. Во времена Римской империи рабство действительно было элементом повседневности и, по сути, вся экономика государства строилась на его основе. И все же наши нынешние оценки более актуальны – это само собой разумеется. Или рассмотрим допущение Эпиктета, что отцу вполне пристало бить сына [38] . Энхиридион 30.
: согласно современным представлениям, это абсолютно неправильно. Наконец, Эпиктет требует, чтобы половые отношения были «чистыми» и ограничивались браком и деторождением [39] . Энхиридион 33.
. Понятно, что в сегодняшнем обществе такая позиция накладывает бессмысленные ограничения на людей любой гендерной принадлежности и сексуальной ориентации.
Когда Эпиктет разворачивает свою теорию ролевой этики, поясняя, что указание на то, как подобает себя вести, мы должны извлекать из особенностей играемых нами социальных ролей – отца, дочери, друга, коллеги, – он явно опирается на представления, типичные для его времени и культуры. Однако человечество за два минувших тысячелетия [40] В качестве философского курьеза сделаю отступление. Говоря о том, что человечество прогрессирует в нравственном отношении, я не приписываю понятию «прогресс» какого-то особого метафизического смысла. Мне, например, не верится, что моральные истины существуют где-то сами по себе, независимо от нашего сознания. (Иначе говоря, я не отношусь к числу тех, кого философы называют моральными реалистами.) По моему мнению, нравственность – изобретение человеческое. Но я также полагаю, что она задается эмпирическими фактами человеческой природы – в частности тем, чего люди желают и почему они желают именно этого, что составляет для них благополучную жизнь и так далее. Воспользуемся аналогией и подумаем о развитии (и постоянном прогрессе) самолетостроения. Самолеты – изобретение человека, без людей они существовать не могли бы. Однако устройство самолетов и их возможности ограничены законами физики. Чем больше мы делаем эмпирических открытий, касающихся человеческой природы, и чем больше мы философски размышляем над тем, как вести жизнь, стоящую того, чтобы жить, тем больший «прогресс» мы, вероятно, достигаем. Эта позиция, как представляется, полностью соответствует подходу стоиков, которые утверждали: чтобы вести эвдемоническую жизнь (этика), нужно правильно рассуждать (логика) и понимать, как устроен мир (физика).
добилось большого прогресса в нравственном отношении и, как можно надеяться, продолжит это движение и в будущем. А это значит, что само истолкование и понимание социальных ролей подвержено постоянным изменениям.
Вместе с тем признание факта культурного развития не меняет сути многих рекомендаций Эпиктета – будь то совет, согласно которому нам следует уважать своих родителей, или напоминание о том, что их качества и их поступки по отношению к нам не находятся в нашей власти. Мы, современные люди, лишь добавляем: подобные наставления не предполагают, что нам следует подчиняться физическому или психическому насилию, даже если оно исходит от близких. Этот пункт более важен, чем может показаться на первый взгляд, поскольку не исключены сомнения или замешательства относительно логических следствий, которые вытекают из постулатов стоической философии, взятых вне связи с обычаями породившей ее эпохи. Хорошим примером может служить вопрос о феминизме, относящийся к следующей теме, которая, в свою очередь, выводит к проблеме социальной справедливости.
ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Понятие социальной справедливости сегодня, как ни странно, остается весьма противоречивым. Поэтому позвольте пояснить, что я имею в виду, используя его в контексте этой книги. На фоне типовых воззрений их времени отношение античных стоиков к женщинам и рабам выглядело весьма передовым. Например, Сенека в I веке н. э. писал своей подруге Марции о том, что женщины имеют такие же аналитические способности, как и мужчины, и, следовательно, способны обучаться философии и практически заниматься ею [41] Seneca, To Marcia, on Consolation XVI , Delphi Classics, 2014, https://www.delphiclassics.com/shop/seneca-the-younger/ .
. Тот же мыслитель однозначно утверждает, что раб – человек, ничем не отличающийся от других, и относиться к нему должно соответственно [42] Сенека. Нравственные письма к Луцилию, XLVII. См.: Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука, 1977.
. Зенон, основатель стоицизма, уже в IV веке до н. э. зашел столь далеко, что заклеймил рабство, назвав его злом [43] «Он один [мудрец] свободен, тогда как дурные люди – рабы, – ибо свобода есть возможность самостоятельного действия, а рабство – его лишение. (Есть, впрочем, и другой род рабства – подчинение, и третий – принадлежность и подчинение; здесь противоположностью является господство, которое тоже есть зло.)» Цит. по: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1986. С. 282.
. Что же касается расизма, то древние греки и римляне просто не думали о расах так, как мы воспринимаем этот концепт. Наши рассуждения о расах коренятся в так называемом научном расизме, появившемся в эпоху Просвещения и с максимальной жестокостью применявшемся в практике колониализма. В глазах греков и римлян рабы (если только они не были рождены в рабском состоянии) когда-то являлись свободными людьми, которым не повезло проиграть битву. В те времена подобное случалось сплошь и рядом, причем даже с самими греками и римлянами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу