Однако пойдем дальше. В конечном счете то, на чем нам нужно остановится, и является основой повседневной жизни: мы способны уживаться друг с другом, лишь если нас объединяют обширные области бесспорного, если мы сходимся в том, что имеет смысл говорить. Изучение любого языка заключается не только в умении строить предложения согласно правилам грамматики, но и в способности договариваться с другими людьми относительно суждений, которые впоследствии не будут поставлены под сомнение. В этом смысле Витгенштейн приходит к утверждению о том, что говорение – это действие в рамках «формы жизни», общей для коллектива. Это означает, что мы следуем одним и тем же правилам, единственное обоснование которых состоит в том, что они являются общими и мы единодушно признаем их таковыми.
«Следование правилу» представляет собой странный процесс. С начала 1930-х годов, то есть со второго периода своего творчества, Витгенштейн часто прибегает к понятию правила в целях разъяснения статуса необычных предложений, которые, по-видимому, выражают необходимые факты. Для этого Витгенштейн, как отмечалось выше, пытается показать, что эти предложения являются не настоящими предложениями в привычном смысле, как, например, предложение « в Нанте идет дождь», но правилами нашей «грамматики», которые определяют значение составляющих ее слов. В начале 1930-х годов Витгенштейн зачастую сравнивает правила грамматики с правилами игры или правилами счета, желая тем самым объяснить, что, во- первых, правила произвольны, а во-вторых, что эта произвольность ни в коей мере не мешает нам договориться применять их одинаково. Другими словами, то, что правила игры были установлены без достаточных оснований, не означает, что в игру, которую они определяют, нельзя играть надлежащим образом, то есть при каждом ходе мы знаем, что нам разрешено, а что запрещено.
Одна из философских проблем, касающаяся преимущественно области оснований математики, связана с идеей о том, что если нельзя окончательно обосновать правила, которые руководят расчетами или использованием языка в целом, то становится непонятно, по какой причине мы все принимаем одинаковые правила и договариваемся о том, каково их правильное применение. Мы все не просто так признаем, что у ствола должна обязательно иметься длина; на это наверняка есть причина, которая может быть непосредственно связана лишь с самой природой ствола, и т. д. Итак, Витгенштейн использует сравнение с игрой, чтобы разъяснить, что мы все можем условиться относительно того, что является разрешенным ходом в шахматах, без лишних обоснований, для которых требуются ссылки на некую «сущность» ферзя или коня…
Эта витгенштейновская концепция, по всей видимости, опирается на идею, что мы в некоторой степени вынуждены применять то или иное правило одним-единственным способом. Поэтому нам не составляет труда прийти к соглашению о том, какое применение правила будет считаться верным. Мы опираемся не на сущность ферзя, но на свойство правила, которое состоит в том, чтобы определять заранее и однозначно то, что нам дозволено и запрещено делать во время игры. Разве это не менее загадочно? И в основе объяснения, данного Витгенштейном, не лежит ли нечто еще более невразумительное, чем то, что он пытается растолковать?
Проблема становится еще очевиднее, если учитывать, что Витгенштейн ставил себе одной из главных задач ограничиться исследованием окружающих нас вещей, которые стали настолько привычными, что мы перестали обращать на них внимание, а также попытаться предотвратить типично философскую привычку выходить за пределы данности. Сравнение «грамматических» предложений с правилами игры, безусловно, позволяет нам понять, что отсутствие обоснования не влияет на быстрое достижение между нами договоренности о том, какое применение правила считать верным. Однако цена, которую мы платим за это, представляется чрезмерно высокой, поскольку необходимо признать наличие в правиле загадочного нечто, которое нами тайно руководит или является тем, что мы воспринимаем заранее, не вполне отчетливо, пунктирно, в качестве правильного применения правила. Итак, неужели в правиле присутствует нечто скрытое?
Витгенштейн вскоре осознал, что в этом было что-то недопустимое: мы не только не можем опереться на какую-либо «сущность» вещей для обоснования того или иного «грамматического» правила, но и не можем предположить наличие чего-то в правиле, что должно обосновать необходимость следовать ему определенным образом.
Читать дальше
![Франсуа Шмитц Витгенштейн [litres] обложка книги](/books/438320/fransua-shmitc-vitgenshtejn-litres-cover.webp)

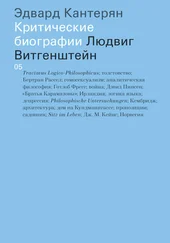
![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/386204/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre-thumb.webp)
![Билл Франсуа - Красноречие сардинки [Невероятные истории подводного мира] [litres]](/books/389454/bill-fransua-krasnorechie-sardinki-neveroyatnye-ist-thumb.webp)
![Жан-Франсуа Шаба - Дух из черной комнаты [litres]](/books/392704/zhan-fransua-shaba-duh-iz-chernoj-komnaty-litres-thumb.webp)

![Наталия Таньшина - Франсуа Гизо - политическая биография [litres]](/books/396482/nataliya-tanshina-fransua-gizo-politicheskaya-biogra-thumb.webp)
![Яцек Комуда - Имя Зверя. Ересиарх. История жизни Франсуа Вийона, или Деяния поэта и убийцы [litres]](/books/415226/yacek-komuda-imya-zverya-eresiarh-istoriya-zhizni-fra-thumb.webp)
![Франсуа Баранже - Спаситель мира [litres]](/books/433146/fransua-baranzhe-spasitel-mira-litres-thumb.webp)
![Франсуа Плас - Королева под снегом [litres]](/books/436099/fransua-plas-koroleva-pod-snegom-litres-thumb.webp)
![Франсуа Баранже - Dominium Mundi. Властитель мира [litres]](/books/436520/fransua-baranzhe-dominium-mundi-vlastitel-mira-l-thumb.webp)
