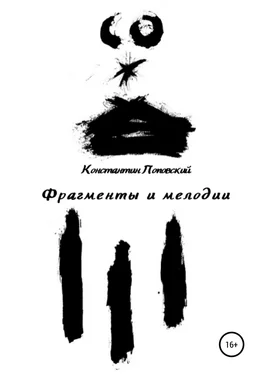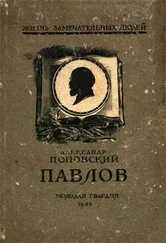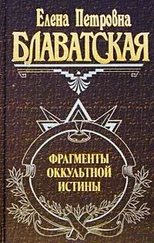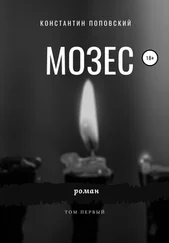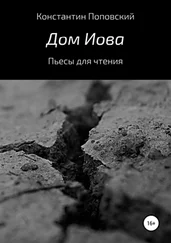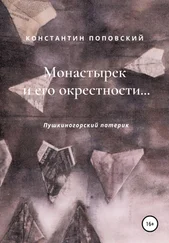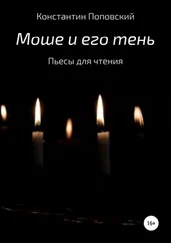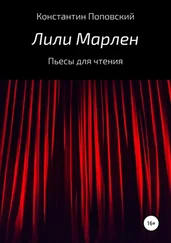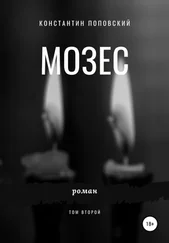Я существую, пока смеюсь. – Помилуйте, какое необязательное существование! Так далеко уйти от прочных конструкций, воздвигнутых стараниями Декарта! – Не смею настаивать, но все же загляните: на дне декартовского cogitare плещет бесконечное море горького смеха… Ах, вы боитесь головокружения! В таком случае, продолжайте «мыслить».
Быть может, Небеса любят нас совсем не за те плоды, которые приносит познание, но только за саму эту страсть познания, которую Аристотель когда-то холодно назвал «любопытством».
Сколь они различны, эти миры, – по ту и по другую сторону.
Но, возможно, это только один мир, взятый с противоположных сторон?
Впрочем, думать так ничуть не более справедливо, чем полагать, что наши сны целиком обязаны своим существованием яви. И то, и другое обнаруживает свое единство только в словах.
ПРИБЕЖИЩЕ СЛАБЫХ. Спрашивают: – А что, собственно говоря, вы хотите сказать этим? – Не слишком спешите ответить. Ведь на самом деле от нас хотят совсем другого. Спрашивающие словно заклинают: не пугайте нас своим молчанием, – поскорее назовите имя того, о чем идет речь! – Назвать имя! – вот и все, что от нас требуется. В конце концов, это-то и значит: отвечать на вопросы. Ведь в какие бы объяснения мы ни пускались, какие бы определения мы ни давали, рано или поздно нам все равно придется остановиться на том или другом имени. – «Так это-то и имелось в виду!» – Какой вздох облегчения! – Чего же здесь стыдиться и что скрывать: на именах, словно на базальтовом основании, выстроена вся наша мудрость. Напрасно мы думали, что она призвана познавать, открывая для нас новые горизонты. Нет же – она только и делает, что обороняется, воздвигая все новые и новые укрепления из имен и славословий. Язык, на котором она говорит – наш собственный язык – но это язык магов и волшебников: он призван уберечь нас от страха перед тем, чему нет имени. Он – прибежище слабых, крепость, за стенами которой проходит наша жизнь, магический круг, оберегающий и вселяющий уверенность. Значит ли это, что правы говорящие, что кроме слов мы не располагаем больше никакими другими богатствами? Вот уж нет. Точнее будет, если мы скажем, что у нас просто нет другого прибежища.
Отчего бы и не так: давать определения – значит всего лишь избегать ответственности?
НЫРЯЛЬЩИКИ ЗА СМЕРТЬЮ. Существуют истины, которые подобны глубоководным рыбам, истины, обитающие на дне океана. Они лопаются раньше, чем мы успеваем вытащить их на поверхность, оставляя в наших руках искалеченную плоть, с торчащими в ней обломками костей. Они – не для нашей повседневности, где вполне можно обойтись игрушечными истинами, истинами-для-покойного-существования или для-приятного-времяпровождения, – карманными истинами на все случаи жизни. Эти – из другого мира и другого теста. Именуя эти истины метафизическими, посвящая им диспуты и трактаты, мы уверены, что крепко держим их в руках, тогда как перед нами – только до неузнаваемости искалеченные остатки другого пространства и другого времени, других отношений и другой жизни. Талант Кювье – не из тех талантов, которыми блещет философия, реконструируя по костям и бесформенным кускам когда-то живой плоти Истину, мы создали чудовищ, которые – будь они живы – пожрали бы и нас, и самих себя. Все, чего мы добились – это презрение, но чаще – забвение. И верно: что проку в этих бесполезных играх помраченного разума? И кому нужны эти мертвые и ни на что не годные «истины», пахнувшие плесенью и разложением? Мир был прав, выбросив их гнить на обочину своего пути. – И все же… Как и прежде, как и тысячу лет назад, что-то неудержимо тянет нас на океанский берег, к самой кромке кипящего прибоя, разделяющей два мира. Чтобы добыть те истины, мы учимся нырять, – и с каждым разом, все глубже. Привычка к нырянию стала нашей второй природой. Правда все, что нам время от времени удается добыть, – это все те же искалеченные, бесформенные свидетельства другого мира. Мы давно уже отчаялись привести подводные свидетельства другого мира на землю и примирить их с нашей повседневностью. Вместо этого мы научились другому – долго плавать среди них в сумеречной глубине, не нарушая царящий здесь покой, вслушиваясь и пытаясь понять их молчание. – «Учитесь жить на земле!» – советуют нам поклонники игрушечных истин. – «Здесь светит солнце, и поют птицы!». – И верно: туда, куда опускаемся мы, не доходят ни свет, ни птичьи трели. Причина ли это, чтобы последовать чужим советам? Скорее наоборот. Все чаще, возвращаясь на землю, чувствуем мы, как разряжен здесь воздух, как теснее делается земное пространство, как сжигает кожу и ослепляет мертвый солнечный свет. Мы бы хотели жить там, среди наших неразгаданных истин, хотя нам не хуже других известно, что это значит: уйти, чтобы не вернуться. – И все же… Все реже возвращаемся мы на поверхность в привычный мир спасительных слов и твердых перспектив. Племя ли мы бесстрашных? Вот уж нет! Как не велико наше желание, каждый раз, касаясь поверхности воды и разглядывая лежащую под нами бездну, мы замираем и медлим в неуверенности: не вернуться ли? Но разве осталось еще такое место, куда мы могли бы вернуться? Шум прибоя не перестает напоминать нам, что в глазах остальных мы всего только ныряльщики за смертью. – Впрочем, единственное, что нам ставят в вину, это то, что мы слишком забегаем вперед… Не правда ли, какое странное обвинение?
Читать дальше