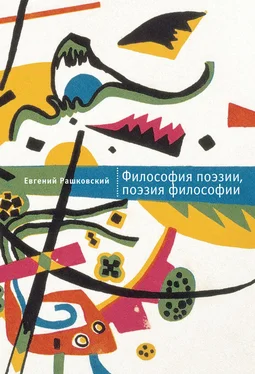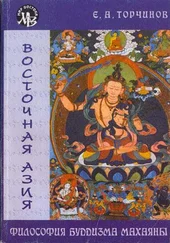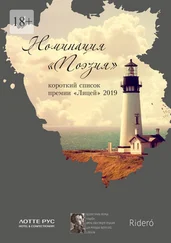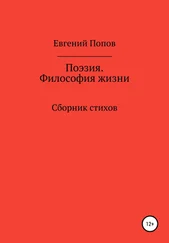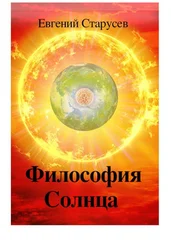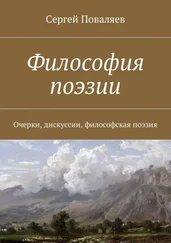См.: Я. Аббаньяно. Мудрость философии…, с.64; Воспоминания…, с. 183–185.
Одно из последних моих обоснований этой идеи [Рашковский 2010].
Ранней истории науковедческой мысли в России была посвящена специальная глава в моей книге [Рашковский 1985, 17–35].
На заметку для молодых читателей, уже позабывших о советской идеологии: «надстройкой» именовались все сферы человеческой деятельности, непосредственно не связанной с процессами материального производства, а «прослойкой» (непонятно только, между кем и чем) именовалась интеллигенция, в ряды которой включали и управленцев, и силовиков, и мелких чиновников…
И что любопытно: некоторые из них были связаны своими корнями с культурными традициями интеллигенции Центральной и Восточной Европы.
Нахождение научной мысли и практики в подвижном «космосе истории» – одна из стержневых идей Михаила Александровича, варьируемых и развиваемых на всём протяжении его трудов.
И нынешние, восходящие к эпохе схоластов и средневековых университетов, формы защиты дипломных работ и диссертаций во многом воспроизводят формы состязательного судопроизводства: критика (редуцированные обвинения) – собственно защита – третейское решение «судей».
Именно «ecмь(sum)», a не «существую», как это принято переводить у нас: речь у Декарта идет не о моем сепаратном «существовании», но о глубокой взаимной сопричастности Мышления и Бытия.
Достаточно почитать переписку Спинозы [Спиноза 1957], чтобы убедиться, сколь огромную роль в расширении горизонтов тогдашних мыслителей и ученых начали играть именно почтовые коммуникации.
У Маяковского: «Поэзия – вся! – езда в незнаемое» («Разговор с фининспектором о поэзии»). Кстати сказать, в этом же стихотворении Маяковский дает почти наукоцентрическое определение поэзии: «Поэзия – та же добыча радия. // В грамм добыча, в год труды. // Изводишь, единого слова ради, // тысячи тонн словесной руды».
Вспомним прочно вошедшие в науковедение категории британского химика и философа науки Майкла Поланьи: «безмолвное знание», «личностное знание (tacit knowledge, personal knowledge)».
Одно из самых поразительных российских свидетельств на сей счет – неоконченные мемуары великого хирурга, но также и богослова и философа, которому обязаны жизнью десятки, если не сотни тысяч людей – архиепископа Луки (Валентина Феликсовича) Войно-Ясенецкого [Войно-Ясенецкий 2013].
Разумеется, история Науки знает и множество фактов «силового» давления на теоретическую мысль: от процесса Галилея до преследования психоаналитиков, генетиков, кибернетиков или «космополитов» в СССР. Но это давление исходило не изнутри самой Науки, но прежде всего в силу вненаучных властных и идеологических интересов.
Вспомним такую историко-научную ситуацию: галилеевско-ньютоновская космология вытеснила космологию аристотелианскую; однако элементы аристотелианства парадоксальным образом возродились в биологии последующих времен вместе с идеями эволюционизма и классификации живых организмов. И вообще – аристотелианское наследие стало неотъемлемой частью общей классификационной науки. А уж вклад аристотелианства в логический аппарат Науки как таковой – вещь самоочевидная.
Розов и его коллеги вспоминают в этой связи еще старое шутливое «доказательство» несуществования Наполеона: 4 его брата – лишь не что иное, как символы четырех времен года, 12 маршалов – 12 знаков Зодиака, так что и сам Наполеон – не что иное, как очередная фикция солярного мифа [Кузнецова 2012, 435–436]…
Вспомним, как высказывается об этой нерассуждающей вере в отсутствие, вере в не-существование булгаковский персонаж: «…что же это у вас, чего не хватишься, ничего нет!» («Мастер и Маргарита», кн. 1, гл. 3). Отсутствие смыслового основания жизни неизбежно предполагало и материальное ее оскудение.
Ведь и эффект кинематографа строится на стремительном чередовании неподвижных картинок…
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу