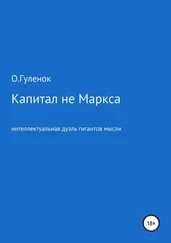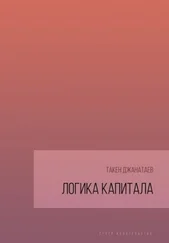«мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движения, не прервав непрерывного, не упростив, огрубив, не разделив, не омертвив живого. Изображение движения мыслью есть всегда огрубление, омертвление, – и не только мыслью, но и ощущением, и не только движения, но и всякогопонятия.
И в этом суть диалектики. Эту-то суть и выражает формула: единство, тождество противоположностей» [Л: 29, 233.].
Незнание принципа рассмотрения в чистом виде было гносеологической причиной многочисленных заблуждений домарксистских экономистов.
«Все политико-экономы делают ту ошибку, что рассматривают прибавочную стоимость не в чистом виде, не как таковую, а в особых формах прибыли и ренты. Какие теоретические заблуждения с необходимостью должны были отсюда возникнуть, это раскроется полнее в третьей главе, где анализируется та весьма превращенная форма, которую принимает прибавочная стоимость, выступая в виде прибыли» [МЭ: 26-I, 6.].
Незнанием этого принципа объясняются многочисленные заблуждения авторов «Программы курса политической экономии» и соответствующих учебников. Включение в предмет политэкономии производительных сил объясняется этим незнанием; им же объясняется путаница в понимании предмета исследования вообще. Ибо прежде чем приступить к исследованию, нужно вычленить предмет исследования из всех связей, отношений, причем его исследование может быть успешным, если он в своем развитии достиг классической зрелости. Так, Маркс, во-первых, вычленил капитал из остальных связей и отношений и рассмотрел его в чистом виде, а во-вторых, вычленил капитал зрелый, развитый – капитал середины XIX в.
Исследуя именно такой капитал в чистом виде, Маркс пришел к совершенно четкому и определенному выводу о двух стадиях капиталистического обобществления труда – мануфактуры и крупной промышленности. Так, он подчеркивал, что
«возникновение мануфактуры есть в то же время возникновение капиталистического способа производства…» [МЭ: 46-II, 84.],
что
«соответствующий капиталу способ производства, может существовать только в двух формах: в форме мануфактуры или в форме крупной промышленности» [МЭ: 46-II, 81.].
Сказано ясно. Однако с некоторых пор в нашей литературе, в особенности политико-экономической, говорится о трех стадиях: простая кооперация, мануфактура, крупная индустрия [18] См., например: Политическая экономия / Под ред. А.М. Румянцева. М., 1982. С. 136.
. Как же могло случиться, что некоторые авторы простую кооперацию включили в характеристику капитализма?
Обычно ссылаются на В.И. Ленина, который на основе исследования развития капитализма в России XIX в. сделал вывод, что
«главных стадий этого развития три: мелкое товарное производство (мелкие, преимущественно крестьянские промыслы) – капиталистическая мануфактура – фабрика (крупная машинная индустрия)» [Л: 3, 542.].
Однако В.И. Ленин исследовал в отличие от Маркса не классическую форму развитого капитализма, а конкретную русскую действительность XIX в., где мелкое товарное производство имело определенный удельный вес, хотя уже шел процесс его превращения в капиталистическую мануфактуру. Как подчеркнул К. Маркс,
простая кооперация «совпадает с производством в широких размерах, но она не образует никакой прочной, характерной формы особой эпохи развития капиталистического производства» [МЭ: 23, 347.].
Другими словами, В.И. Ленин одну и ту же форму – мануфактуру – рассматривает в двух аспектах: как мелкое товарное производство, т.е. зачатки мануфактуры, и как собственно мануфактуру.
Прямым нарушением рассматриваемого принципа является определение предмета политической экономии социализма в «Программе курса политической экономии». Содержащееся в ней определение «Социализм – первая фаза коммунистического способа производства» вызывает возражение. Во-первых, потому, что социализму соответствует социалистический способ производства, а не коммунистический. Во-вторых, потому, что в социалистический способ производства входят не только определенные производственные отношения, но и соответствующие им производительные силы. В-третьих, потому, что социализм есть единство и материальной, и духовной стороны жизни общества. Но ни производительные силы, ни духовные явления не составляют предмет политэкономической науки. Предметом политической экономии социализма является совокупность материальных производственных отношений (и только), и этот предмет следует вычленить и исследовать, излагать в чистом виде, как это делал Маркс, не смешивая его с другими отношениями. В противном случае действительного научного исследования не будет. И если в предмет политэкономии включаются и другие явления, скажем, производительные силы, то, во-первых, само научное исследование производственных отношений становится невозможным, поскольку оно засоряется всякими примесями – предметами других наук; во-вторых, смазывается, притупляется классовый, партийный характер политической экономии, поскольку последняя разбавляется товароведением, технологией и т.д. Недаром классики марксизма решительно выступали против такой мешанины. Ученые профессора, писал В.И. Ленин еще в 1898 г., плохо понимают политическую экономию, сбиваясь с общественных отношений производства на производство вообще и наполняя «свои толстые курсы грудой бессодержательных и не относящихся вовсе к общественной науке банальностей и примеров» [Л: 4, 35.].
Читать дальше
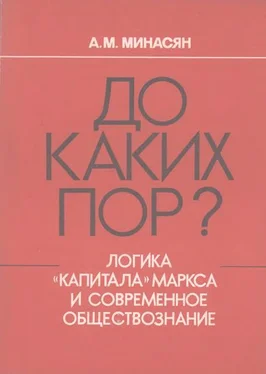
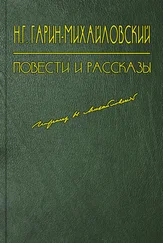
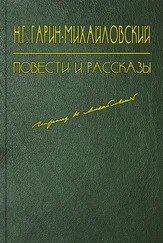

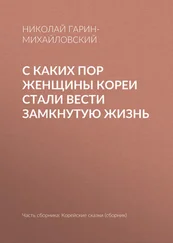
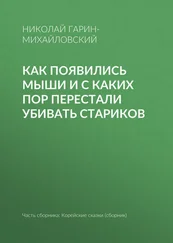

![Борис Поршнев - Загадка «снежного человека» [Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах]](/books/390177/boris-porshnev-zagadka-snezhnogo-cheloveka-sovreme-thumb.webp)