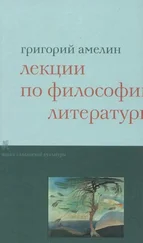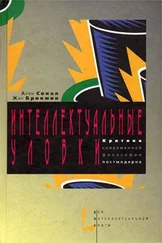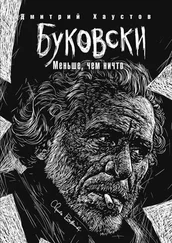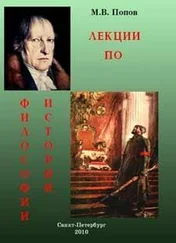1 ...6 7 8 10 11 12 ...98 О том, что в этой ситуации сгодится для нас с вами, поговорим в тот раз, который нам для этого сгодится.
Лекция 2. [Структурализм и деантропологизация]
Теперь, как и прежде, и даже еще интенсивнее, нам нужно помнить, что в философии утилитарное и интересное находятся в обратно-пропорциональном отношении. Но об этом никому ни слова.
Напомню, что нам удалось выделить ряд ключевых для нашей темы проблем – это проблема времени или временного сдвига, проблема субъекта, проблема иерархии оппозиций и проблема тождества, еще ближе – тотальности. Отдельная проблема, которая отдельна именно потому, что она выступает как отмычка ко всем прочим, это проблема языка. Именно язык размывает временные модусы, язык подчиняет себе субъекта, язык выстраивает и ломает иерархии, язык изнутри прорывает тождество и тотальность. Аналитическая традиция, ставящая именно язык в центр своих рефлексий, оказывается наиболее существенной не только, как это принято считать, для англосаксонской философии, но также для философии континентальной. Философия ХХ века чем дальше, тем более лого- или лингвоцентрична. Ту одновременно антиидеологическую и идеологизирующую функцию, которую за век до того выполняла история, в ХХ веке практически полностью узурпирует язык. Язык подавляет, он же освобождает. Язык – это оружие, и все дело в том, в чьи руки он попадает. Без рефлексии о языке мы выпадаем из мышления как такового – я молчу о том, что мы, конечно, выпадаем из политики, поэтому тиран прежде всего ворует и подчиняет себе язык, мы выпадаем из этики, эстетики и так далее. Без рефлексии над языком мы выпадаем из философии. Нельзя забывать, что основополагающий философский жест – жест сократический – был вопрошанием именно о словах: что значит «справедливость», «истина» и прочее.
Язык становится на место привилегированной когда-то истории именно тогда, когда направленная на него рефлексия выявляет, что язык не прост и не прозрачен для нас, он скорее призрачен – он ускользает, он смущает, смещает и путает, он хитрый, лукавый, обманчивый. Он охотно служит многим господам сразу именно потому, что у него нет подлинного хозяина. Напротив, он охотно хозяйничает надо всеми, кто полагает, что является хозяином в доме языка. Именно поэтому подходы к языку могут пестрить и разниться до противоположности: можно приближаться к нему как Витгенштейн, а можно как Хайдеггер, а можно вообще как Сталин, известный ученый-языковед. Язык пластичен до немыслимых масштабов, однако власть его крепче титановых цепей. Философия вплоть до ХХ века почти никогда не считала проблематизацию языка своим основным занятием (и Сократ у Платона всякий раз сползает с языка в онтологию), именно поэтому теперь она вся превратилась для нас в проблему: как могли эти люди мыслить мышление, когда они не мыслили языка, в котором это мышление дано? Теперь, когда многие языковые ловушки разверзлись перед нами подобно бескрайним минным полям, отчего мы должны продолжать верить в то, что все они – аквинаты, декарты, лейбницы, канты – все они вполне понимали, о чем говорят, и все они все еще заслуживают доверия? Нам хочется верить, что – понимали, что – заслуживали, но твердой уверенности в этом нет. Поэтому чисто по-человечески, пускай не интеллектуально, понятен типаж вроде Бертрана Рассела, который с чистейшей совестью пишет огромный том о том, что до него в философии были одни, как на подбор, дегенераты. Почему? Да потому, что они не думали о главном – о логике, понятой как логика языка. Однако очень скоро и Рассел перед лицом Витгенштейна стал казаться слабоумным.
Для простоты мы назовем это кризисом однозначности, например, или кризисом прозрачности языка . Эта новая проблема очевидным образом корреспондирует со всеми теми проблемами, которые мы обозначили выше. К примеру, проблема тождества – это прежде всего проблема именно языкового тождества, проблема однозначности знака. Знак означает вот это и именно это – не знаете, посмотрите в словарь, как говорил Витгенштейн. Он, конечно, лукавил, потому что словарь не снимает проблему, если значений у знака много, а их всегда много – реально или потенциально.
Далее, проблема оппозиций: черное/белое, хорошее/ плохое. Однако и оппозиции являются функциями языка, если вспомнить Соссюра. В том-то и дело, что всякий знак определяется через сеть оппозиций, и черное – это именно что не белое, значение черного не в сущности, но в функции, в различении между одним и другим, черным и белым. Петр не потому Петр, что он Петр сущностно и сам по себе, а просто потому, что он не Павел. Петр и есть «не Павел», а собственно «Петр» есть операциональный знак для «не Павла», как субстантивированное различие. Возвращаемся к предыдущей проблеме тождества: нет, знак не тождественен сам себе, он прежде всего отличен от другого знака и получает свое функциональное тождество только в результате первичного различия. Именно так: различие раньше тождества. Пожалуй, именно это положение лингвистики ХХ века можно счесть наиболее революционным – прежде всего по последствиям, чаще всего именно внелингвистическим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу