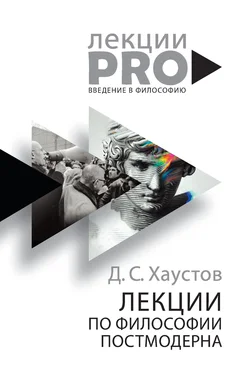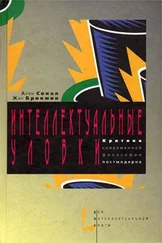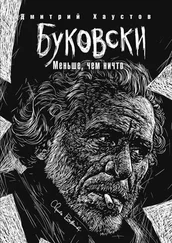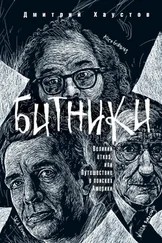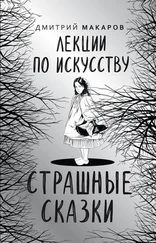Деконструкция – не метод работы, но сама работа философского языка-мышления. Работа, вся состоящая из разрывов, осуществляемая в зазоре: между словами и вещами, языком и миром, логосом и бытием, дискурсом и знанием. Так как зазор непреодолим, работа не может закончиться. Все, что нам остается, – блюсти разрыв. Но это ответственная задача – когда разорванное норовит смешаться, космос и хаос сливаются до неразличимости, на свет выползают чудовища – те, о которых у Гойи. Работа деконструкции, работа различия – вся в пристальном внимании к знаку, к слову и тексту. Это чтение и перечитывание, которое в конечном итоге становится не чем иным, как письмом. Если выйти за пределы знака мы не в состоянии, если нам запрещено, невозможно прыгнуть от знаков к вещам, все, что нам остается, – предельно серьезная знаковая игра. Не имея внешнего (ничего, кроме текста, скажет Деррида), знаковая игра самодостаточна – она сама себе цель, сама себе средство. Однако незримый предел и непреодолимое отставание от предполагаемого истока обращает самодостаточность в вечную нехватку, в отсутствие желаемого объекта. То есть внешнего нет, но неизбывна тяга вовне – тоже противоречие, значимое, как ничто иное.
Деконструкция – не метод, но и не анализ. Анализ – это работа расчленения, рассечения и раздела сложного целого с целью добраться до самых простых элементов – до элементарных частиц. Это мания атомизма – найти простейшее, которое, будучи далее не разложимым, все бы смогло объяснить. Здесь, таким образом, снова заявляет о себе лихорадка по истоку, желание добраться до последних вещей. Но если работа различия, зазор между следом и шагом неизбывна, значит, ностальгия по неуловимому истоку – имя все той же иллюзии, заставляющей нас с преступной оплошностью выдавать слова за вещи. Смешивающая хаос и космос, ностальгия по истокам – на атомистский манер или на какой-то иной – служит источником всякого зла, коренящегося в неразличении, в истерическом неприятии зазоров, расколов в существе мира, невосполнимой неполноценности существования. Залатать дыру – значит совершить преступление, солгать, объявить не -сущее сущим. Сказать, что завтра настанет социализм, сегодня убив ради этого миллионы людей. Сказать, что страна, не раз изнасилованная и разграбленная, пышет здоровьем и величием. Сказать, что у человека в кармане билет в Царство Небесное.
Для деконструкции нет ничего простейшего, первородного, неделимого, однако всегда есть разрыв в филиации первому следу, чаемому, но недоступному. Такая работа – настоящий сизифов труд, конечно, без всяких отсылок к Камю, мыслителю, что уж там, очень наивному. Правда в том, что сизифов труд едва выносим, но и в том, что, храня различение между логосом и миром, эта работа хранит мир от хаоса. Не будучи методом и анализом, деконструкция также не критика. Сама философская критика создана в русле метафизической традиции и несет на себе ее отпечаток – Кант не меньше Платона толкует о последних вещах, так, что невыносимый зазор между явлениями и вещами в себе был устранен уже первым поколением его учеников (про них Кант говорил: Боже, защити нас от наших друзей, а со своими врагами мы как-нибудь сами справимся). Критика заблаговременно полагает, что истина у нее в кармане – ведь она вправе разоблачать заблуждения, а как это сделать, если не знать настоящее? Сказанное, впрочем, вполне может быть обращено – и не раз обращалось – к самому Деррида (к примеру, у Гройса или у Жижека).
Пройдя через все эти апофатические препятствия, главное, что мы сохранили, – это оппозицию деконструкции и метафизики, смысл которой в том, что первая охраняет разрыв, через который последняя всегда норовит перепрыгнуть. Имея дело со словами, метафизика ведет себя так, как будто бы у нее в руках сами вещи. Деконструкция ловит ее за руку и демонстрирует, что – вот же, не вещи совсем, но слова. Такие слова, которые, постоянно цепляясь друг за друга, вихрясь и отталкиваясь, на каждом шагу отдаляют искомую встречу с вещами в невидимую бесконечность. Метафизика – имя традиции, которая держится на центральной ошибке, имя которому, собственно, метафизический прыжок . Смысл его мы вполне уловили. Примерами полнится западная традиция (о восточной не говорю по незнанию). Недоверие к метафизике, впрочем, сопровождало саму метафизику почти что на каждом этапе ее существования. Рядом с платониками были киники и скептики, рядом со схоластами – номиналисты, новые скептики вроде Юма встали и рядом с рационалистами Нового времени, Кант умудрялся в себе совмещать самые противоречивые линии, а позже был Ницше, за ним Хайдеггер, за ним Деррида – множество иных примеров я, конечно, опускаю. Различение между метафизикой и условной, широко понятой деконструкцией, следовательно, нельзя понимать внешним образом – как границу, скажем, между полицейскими и ворами (пример тоже так себе, потому что…). Это различие внутреннее, оно принадлежит самой философии и осуществляется в ее работе как разница тезиса и антитезиса – в их напряжении и происходит движение. Деконструкция – не приговор, не судья метафизики, но ее имманентная самокритика, потому что нельзя охранять разрыв между логосом и миром, не искушаясь одновременно ее устранить. Поэтому проект преодоления метафизики – это (только) риторика. На деле и тут есть разрыв, который по сути непреодолим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу