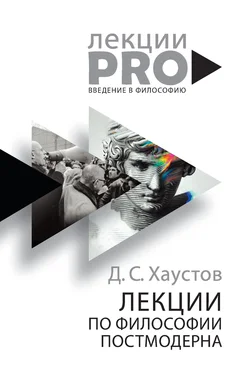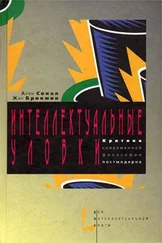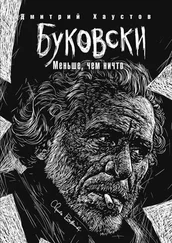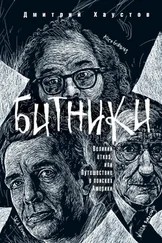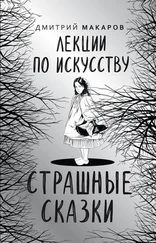Выявление преимущественно знакового характера социальных отношений, который теперь нам кажется банальностью, но не так уж давно был новостью, ведет ко множеству интересных следствий, хотя бы некоторые из которых мы должны обозначить. Прежде всего, как уже неоднократно упоминалось, Соссюр определяет знак не через тождество, но через различие: знак – это некоторое место в системе различий, а не субстанциальная (то есть самодостаточная и независимая) форма. Распространив эту базовую структуру на общество, мы придем к выводу, что и общество также структурируется через различия, а не через тождества. Само по себе это понятно: богатый отличается от бедного, школьник отличается от полицейского и так далее. Это слабое следствие. Но, напротив, сильное следствие будет состоять в том, что такая система различий не просто исторична и ситуативна для общества, но именно что конститутивна, необходима. Помимо прочего это означает, что с революционной романтикой пора покончить: пока есть общество, будет сохраняться и структура неравенства, в том числе имущественного, в том числе иерархического, построенного на неравномерной дистрибуции власти. Этот вывод, скажем так, от семиотики к социологии выдает в Бодрийяре довольно циничного реалиста, успешно покончившего со своим марксистским бэкграундом, столь обязательным для рядового французского интеллектуала. Революция свершилась, а теперь… потребление.
Равенство элементов внутри социальной системы – это миф, даже глупость, потому что единственным равенством элементов внутри социальной системы может быть их различие, то есть неравенство, и все потому, что это знаковая система и никакая другая. Миф об обществе изобилия или о конце истории, когда социальный антагонизм будет наконец преодолен, – это, надо согласиться с Бодрийяром, очень наивный миф, выдающий желаемое за действительное. Действительное – это как раз определение через различие, то есть конститутивный момент неравенства. Общество вовсе не стремится к освобождению, как это представляется страдающим и обездоленным – вспомним Лиотара, который особо выделял среди метанарративов рассказ об эмансипации. Общество стремится к самосохранению, к воспроизводству самого себя, а это означает – к воспроизводству различий, к сохранению неравенства. Кем бы ни были нищий и богатый – вполне допустимо, что сами агенты этих функций могут меняться местами, – но сама структура различий «нищий – богатый» должна сохраняться, сохраняя тем самым и сложную социальную систему. Напротив, мифическое стремление к равенству внутри системы привело бы систему к неизбежному коллапсу, к исчезновению, потому что исчезли бы различия и, следовательно, исчезло бы распределение функций, которое обеспечивает жизнь системы. Поэтому известное утверждение о том, что в современном капиталистическом обществе богатые становятся еще богаче, а бедные становятся еще беднее, более чем справедливо и логично: конечно, чтобы усложнившаяся система сохраняла равновесие своих различий, на еще более богатых должны приходиться и еще более бедные. Оптимистичного в этом, конечно, мало, зато очень много определенного.
В данном случае можно вспомнить и Мишеля Фуко, который ближе к концу замечательной книги «Надзирать и наказывать» утверждает, что полиция отнюдь не борется с преступностью, потому что преступность и полиция – это пара различий, взаимно определяющих друг друга. Бороться с преступностью для полиции означало бы трудиться ради собственного исчезновения, ибо в отсутствие преступности полиция не нужна. Совсем напротив, строго для самосохранения полиция должна хранить, оберегать и воспроизводить преступность, что она с успехом и делает, имея очень эффективные фабрики по производству уголовников под названием «тюрьмы». То же самое можно сказать о врачах и больных – врач заинтересован в существовании больных, потому что ими обеспечивается существование самого врача. Такие бинарные различия можно формулировать не без праздного удовольствия: пожарные и пожары, скажем, или учителя и неучи, бойцы экологического фронта и браконьеры, ортодоксы и еретики – и так далее. Смысл, стоящий за всеми этими примерами, полагаю, совершенно прозрачен.
Вернемся к более ранней точке: общество потребления как семиотическая система разрушает мифы общества изобилия, благоденствия, справедливости, свободы, равенства и братства. Последние, разумеется, тоже следуют знаковой логике, но только не как имя собственное для всей системы, но как название какого-либо ее элемента, по необходимости имеющего для себя различенную пару. Поэтому общество в целом будет в той же мере обществом нищеты, несчастья, преступности, рабства, социального расслоения и взаимной ненависти. В обществе потребления, которое предложено Бодрийяром как концепт для понимания современного общества как такового, осуществляется потребление знаков, так или иначе связанных со всеми этими категориями: знаки благополучия, знаки несчастья и так далее. Поэтому в обществе потребления сама вещность вещей, их базовая функциональность, естественность – все это отходит на второй план, на первый же выходит знаковый, различительный характер вещи. Запомним это: вещь – прежде всего не функция, но знак.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу