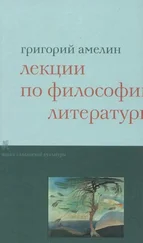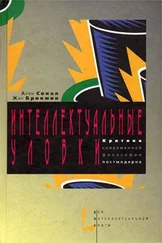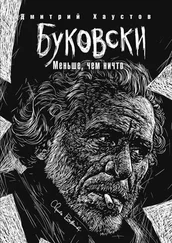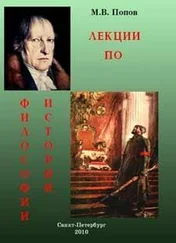Тогда переход от модерна к постмодерну – это переход от Истории к истории, или побивание первой недюжинными, как оказалось, силами второй. И не случайно, что среди этих сил мы находим нашего старого знакомца Фридриха Ницше, который, будучи выходцем из совсем другой эпохи, не без основания оказывается этаким постмодернистом среди модернистов – до всякого исторического постмодернизма, вышедшего на историческую (опять – историческую!) сцену чуть менее чем через сотню лет. Ницше – самая важная для наших французов фигура, любимый автор и учитель большинства ведущих постмодернистов, и Фуко, Делез, Деррида – все охотно признавали себя более-менее последовательными ницшеанцами. Что же такого дал миру Ницше, что интеллектуальная культура спустя век после него обращается к нему за важнейшими своими инспирациями?
Возвращение Ницше к грекам, причем не к каким угодно грекам, а к грекам досократического периода, означает в данном случае возвращение к фрагментарному пониманию истории – возвращению от христианских и гегельянских метанарративов, которые пришли ему на смену. Ницше в отношении истории маркирует возвращение от Истории к истории, и это возвращение, конечно, органично вписывается в его критику иллюзии задних миров , каковая явилась репетицией нашего глобального недоверия к мета-нарративам. Ницше, следуя своему любимому учителю Гераклиту, поднимает на щит фрагмент против всяких больших смыслов. А не менее знаменитая ницшеанская критика субъекта, в свою очередь, в плане критики историографии оборачивается подкопом под концепцию большого исторического субъекта, будь то человечество, или избранные народы, или религиозные общины. Там, где единый воображаемый субъект замыкал на себя то и дело норовящее расколоться на бусинки историческое повествование, Ницше обнаруживает этакую деревянную куклу на очень заметных шарнирах, куклу, которая оказывается местом реализации множества сил и эффектов, которые, обнаруживая себя, приводят куклу в активность, заставляют ее, несчастную деревяшку, дернуть ручкой или брыкнуть ножкой. Ницше, этот ультрапозитивист и пионер тогда еще не рожденной прагматической философии, не оставляет сомнений: субъект – это иллюзия одного животного вида, которому не посчастливилось взвалить на свои плечи чуть больше, чем он был в состоянии унести.
Это лирика, теперь добавим конкретики. В своей статье 1971 года Фуко обращается к наследию Ницше именно для того, чтобы основать свой антигегельянский подход к историческому знанию. Этот подход, вслед за Ницше, он называет генеалогией – буквально учением о происхождении. У Ницше, мы помним, речь шла о генеалогии морали – этот анализ был призван показать, что моральные категории имеют эмпирическое и историческое, а не абсолютное и религиозное происхождение, точнее, само религиозное происхождение моральных феноменов находит свое эмпирическое обоснование. Это был, говоря в общем и опуская трудности, довольно резкий выпад против представления о некоторой безусловной независимости морального чувства, ведь если можно задать вопрос, когда и в связи с чем такое чувство возникло, это означает, что оно, это чувство, не божественно и не священно, что его изобретают люди. С христианской точки зрения историзация божественной морали – большое, как теперь говорится, кощунство. И Ницше знал, в какую болевую точку бить своего религиозного врага.
Исследование Ницше вводит довольно известные понятия, задействует знакомых нам персонажей – это воин и жрец, это чувство мстительности, более известное как ресентимент, это забвение классических греческих добродетелей уже у Сократа и так далее – сейчас не это важно. Нам интересны те следствия, которыми чреват проект генеалогии для нашего кризиса историографии. Ведь генеалогия утверждает, что у всякого дискурса – хотя Ницше, конечно, не употребляет этого термина – есть эмпирическая точка зарождения, вполне материальная причина. Мы вроде бы это понимаем. Но тогда спросим: а что, и у самого дискурса об истории, у исторического повествования тоже есть эмпирическая причина? И будем вынуждены ответить, что да. И тогда мы получим нечто, что можно было бы назвать парадоксом историографического наблюдателя . Суть его вот в чем: если все в истории имеет свое происхождение, то и точка зрения историографа также имеет свое происхождение, и поэтому историческое повествование оказывается – в большей или меньшей степени – не способным объективировать то, объектом чего оно само и является. Или проще: невозможно претендовать на истину в той истории, слепым орудием которой ты сам выступаешь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу