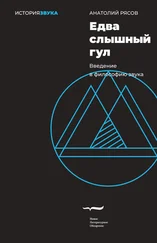Вот так за космогоническими историями перед мыслью является существование в целом, во внутренней связности возникновения и уничтожения как невозникающее и неуничтожающееся бытие. Или же можно сказать и так: в той же мере возникающее, в какой и уничтожающееся, сущее в противоборстве истока и противотока. Такой образ мы находим у Гераклита (фр. 37 в изд. А. В. Лебедева, я не следую его переводу):
«Этот строй, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он был всегда и есть и будет всегда живой огонь, в той же мере разгорающийся, в какой и угасающий». Здесь важно, что бытие существующего мыслится сразу и как тождественно себе устроенное, и как жизнь, горение [117].
Если мы снова спросим теперь, где же располагается ум философа, ответ вроде бы найден: при начале самого ума и его умного, осмысленного им мира. Там, где миф или эпос начинают свои повествования, ум философа задерживается и строит свои вопрошающие логосы. Там, где современный астрофизик рассказывает о большом взрыве и расширяющейся Вселенной, или историки-эволюционисты рассказывают о происхождении (генезисе) и развитии видов животных, нравов людей, научных знаний или художественных стилей, философ тормозит и спрашивает о генезисе начала (из ничего) или следующего шага в развитии (тоже ведь неизвестно, с чего бы).
Заметив, что философия не рассказывает мифы-сказки, Платон так описывает расположение философского ума: «метод исследования нам надо принять такой, будто те находятся здесь и мы должны расспросить их…» («Софист». 243е). Подождите, мысленно обращается философ к рассказчикам, подождите, нам не понятно. Вот вы, которые говорите, что начал существующего два, причем оба есть одним, надо полагать, бытием, так вот, двух начал никак не выходит: либо одно – бытие, либо три – теплое, холодное и бытие. Причем эти три грозят размножаться и дальше. Вернемся же к бытию… Словом, первые философы только теперь, в мысленном пространстве разговора («будто находятся здесь, с нами») стали философами, оказались в философском расположении ума: в диалектической (вопросо-ответной) беседе возле начала начал.
Мы сейчас не последуем дальше за ходом диалектической беседы в «Софисте». Пока нам важно уяснить место и жанр этой беседы. Жанр – диалектика, обсуждение апорий, связанных с мыслью, которая входит не в мифологию начала, а в то, что можно назвать философской археологикой : логикой возможных основопредположений и соответственно архитектоникой возможных миров-умов. Место – при начале, на границе бытия и небытия или истины и заблуждения.
Между миром космогоний и миром философской диалектики разверзается пропасть. Мы сталкиваемся с этой пропастью в поэме Парменида. Если в поэме Гесиода зияющая пасть хаоса отделяла возникший мир от мрака, где залегают один за другим все концы и начала, то теперь подобная пасть это пасть ворот, отделяющих мир «двуголовых» (противоречащих себе) смертных с их невразумительной космологией, где бытие смешано с небытием и для всего есть дорога назад, – от простого, определенного, тождественного себе и замкнутого в себе бытия раз и навсегда отделенного от небытия приговором самой истины к небытию.
В поэме Парменида бездна-зияние – χάσμ᾽ἀχανές [118]– отделяет мир блуждания смертных со всеми их космосами-устроениями от мира алетейи-истины. За широко разверстыми вратами уже не космогоническая бездна с корнями начал, а простое определенное бытие, странно граничащее с простым небытием, о котором можно (и следует) знать только то, что его нет. Этот шаг Парменида не только завершает космогоническую мысль, но впервые ставит тот предел, за которым начинается мысль строго философская: вопрос о бытии не есть вопрос о происхождении.
Всё, что мысль может мыслить, т. е. определенно иметь в виду своего внимания, не блуждая в потемках неопределенности, где остается неясным, о чем она, – есть нечто строго определенное. Значит то, благодаря чему можно говорить о некоем «что», об определенно сущем, и есть определяющий его предел. На вопрос, что делает сущее сущим, ответ: предел. Этот предел отделяет определенное от неопределенного, а неопределенное это смесь бытия и небытия (то ли есть, то ли нет). Следовательно, истина требует, чтобы определенность бытия была отделена от неопределенной смеси бытия и небытия. Иначе говоря, небытие, чтобы не примешивать к определенности в рассказах о возникновении, рождении, изменении… надо вообще изгнать, удалить в… небытие. Отсюда известная тавтология: что есть, есть, а чего несть, того несть.
Читать дальше
![Анатолий Ахутин Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] обложка книги](/books/407742/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs-cover.webp)