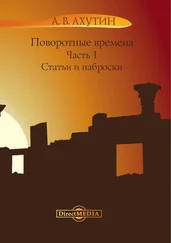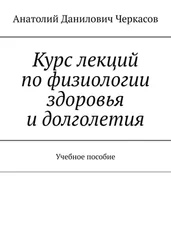Поэтому каждое значительное научное открытие (например, электромагнитного поля) означает не менее значительное открытие в методическом самосознании науки: мыслить напряженностями поля уже не то, что мыслить траекториями механического движения.
Словом, можно сказать, что Гегель в логике своего наукоучения действительно продумал логику развития науки, если только именно внутреннюю логику развития науки понять как саму науку. Теоретики же часто склонны считать, что история теряет значение, как только создана новейшая теоретическая картина мира и написан ее учебник.
Правда, Гегель продумал эту логику развития науки не как методологию науки, а предельно философски: как собственный способ работы мысли, где бы и когда бы она ни осуществлялась. Мысль, когда она мыслит, движется в этой логике, проходя разные состояния, разные формы миропонимания и самосознания, пока не приходит в себя, не образует понятия о себе, тогда то, как мысль мыслит (логика), и то, о чем она мыслит (онтология), совпадают. Ведь истина давно была определена как такое совпадение. Иными словами, Гегель возвел логику развития науки (то есть логику развития новоевропейского науко-технического мира) в мета -софию. Она включает в себя всю историю философии так, что философски припоминает ее и включает в себя. Всё многообразие философских систем продумывается и переосмысливается как этапы, феномены и формации работ одного «духа», который Гегель называет объективным. Объективен он в том же смысле, в какой объективен язык (он не нами придуман, не нами назначены значения слов, смыслы метафор, которыми мы говорим), в каком объективна культура (инструменты, здания, книги, идеи, религии…), которую мы наследуем, в которой образуемся и в качестве образованных становимся субъектами этого объективного духа.
Итак, Гегель понимает внутреннюю связь философских эпох и систем, т. е. логику их «между» как историю: процесс диалектической дедукции. Он как бы распространяет схему декартовского метода на всю историю, словно философия сама в своем развитии действовала картезиански: начинала с интуиции простого, ясного и отчетливого, шаг за шагом достигала нынешнего состояния. Трудность, правда, в том, что в историческом начале «еще» нет Декарта, и мысль «не знает», что она начало долгого пути. Она мыслит, говорит Гегель, наивно : прямо смотрит в мир и понимает его ясно и просто: «всё есть одно», бытие, или само единое, нет все-таки и многое, нет…
Тут-то и вопрос: мир – для наивного (например, эллинского) чувства – богат, пестр, текуч, красочен, опасен, восхитителен… его описывает миф, эпос, лирика, история… а всё, что доступно устойчивому – истинному, но наивному – пониманию, просто. Философ мыслит философски, когда мыслит окончательно, а окончательно он мыслит потому, что его «предмет» – само понятие, поскольку оно что-то понимает. Но наивная мысль спрашивает не «что значит понять?», а «каково есть то, что может быть помыслено, понято, схвачено». Таково «бытие» Парменида, которое держится «в прочных оковах необходимости», т. е. схватываемости. Всё ускользающее, неуловимое, текучее, хаотическое есть ничто (для мысли). Это идея по́нятости окончательной и простой (куда проще?), но никаких дальнейших дедуктивных шагов она не предполагает. Дальше идти некуда, там – ничто. Признаемся, правда, что и само это «бытие» настолько просто, что почти ничто. А может, и не почти (об этом будет большой разговор у Платона в «Софисте»).
Но там, где философ (положим, Парменид) заканчивает, мысль не кончается. Другой философ (в историологике Гегеля) сравнит сказанное (сказуемое) с тем, о чем сказано (с подлежащим), и заметит, что получилось: вместо многообразного и живого мира наивная мысль схватила пустую абстракцию тождества и упустила саму суть дела. Он, другой философ, возражает, отрицает наивную истину Парменида, он должен теперь, не утрачивая истинности по́нятого (единство, тождество, определенность мыслимого бытия) включить в эту истину упущенное, ей противоречащее (как движение противоречит покою) и понять мир сразу как жизнь и как покой. Таков мир Гераклита, словно усвоившего опыт понимания Парменида. Истина бытия есть становление , точнее, чтобы становление не утекало в неопределенность, – противоборство . Бытие это событие. Быть растением значит расти, отвоевывая себе место под Солнцем, быть животным значит жить, отвоевывая свою жизнь в борьбе с другими и в продолжение рода… Быть значит не просто быть определенным, а самоопределяться в качестве самого себя. Но быть – не забываем Парменида! – значит быть целым, схваченным, замкнутым внутри себя. Становление – это взаимостановление сущего: противоборство… И т. д.
Читать дальше
![Анатолий Ахутин Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] обложка книги](/books/407742/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs-cover.webp)