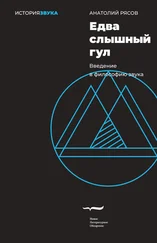Чистому уму может отвечать только чисто мыслимое, что не содержит в себе ничего, кроме простой мыслимой данности, вроде точки , где мыслящая интуиция и мыслимое просто совпадают. Продвижение дедукции, ведущееся под «зорким взором интуиции того же ума», должно тогда соответствовать не столько интуиции простого шага вывода, сколько непрерывности дедуктивного следования мыслей и соответственно непрерывности причинно-следственной связи мыслимого (так алгебраическая функция представляет уравнение движения). Непрерывность должна содержаться в начале как заданная возможность, описываемая, скажем, уравнением движения.
Вот так приблизительно Декарт проектирует метод современной математической механики, из которого рождаются методы математической физики и затем – по аналогии – методы других наук.
Мысль развертывается внутри себя объективно, если развертывается методично, мир раскрывается как объективно познаваемый, если мысль находит аналогичные методы (законы) производства вещей. Метод это то зеркало, в котором мир и мысль как бы видят и узнают друг друга. «Порядок и связь вещей, – скажет ученик Декарта Спиноза, – тот же, что порядок и связь идей» (Этика. Ч. II, теор. 7 [162]). Порядок и связь метода, общие для природы и мысли, – вот как выглядит теперь фигура возможной истинности мысли: непрерывность причинно-следственной связи, соответствующая ей непрерывность функции, записываемой формулой дифференциального уравнения движения, а не определенность формы (греческого эйдоса ).
Таково расположение картезианского ума: разделенные пропастью сомнения, но параллельные миры res cogitans и res extensa, методически и объективно мыслящий субъект и методически выстраиваемый в теории объект. Если говорить строго, они впервые тут – в расположении картезианского ума – появляются: ум-теоретик перед теоретической картиной мира (возможной, искомой) [163], как зритель перед картиной, написанной в прямой перспективе.
А теперь вспомним то, на что я просил обратить особое внимание: когда ego cogitans интуитивно (оглядываясь на себя) полагает несомненное в простоте начало объективной науки (положим, точка, непрерывно движущаяся в пустой экстенсивности пространства), оно интуирует само себя: ego dubitans, Я сомневающееся, не тождественное с объективным миром теории. Я теоретика находится вне картины. Иначе говоря, метод достоверной мысли раздваивается: во-первых, это методическое построение теоретической картины физического мира, во-вторых, это методическое сомнение как мета физическое начало всех позитивно физических начал, какие только ни выдумает теоретик. Стоит вспомнить этот метафизический смысл метода как метода радикального сомнения, и расположение картезианского ума окажется до крайности странным.
Методически объективная мысль строит, говорили мы, теоретическую картину мира. Это именно картина мира, а не сам мир. Мы говорим «идеализация», «схема», «модель». За картиной мира то, что в картину не входит, не сообразуется с логикой (или методо -логикой) объективности, что существует не субъективно, но и не объективно. Кант назовет это странное бытие «вещью в себе» в отличие от вещей, как они представляются и познаются в условиях картезианской объективности.
С другой стороны, методическая объективность с начала и до конца (простота начал, непрерывность и систематизм связи, простота теоретической картины в целом) требуют непрерывного присмотра интуиции, а в средоточии ее – сомнение. Методическое сомнение требует, стало быть, методического пере осмысления несомненности «первоначал», логики «связей», смысла «целого».
Словом, метод Декарта предполагает непрерывное восстановление пропасти, вроде бы преодолеваемой теоретической объективностью. Наука, иначе говоря, не есть некий однажды установленный метод, который с тех пор только накапливает знания, – научное знание научно, пока рефлектирует свои условности, пока удерживается в интуиции сомнения.
А дело это – радикальное сомнение в недрах мощно развитой научности – трудное и требующее самоотверженной решимости. «Но предприятие это мучительно и трудно, – вздыхает Декарт, – и какая-то леность нечувствительно вовлекает меня в ход моей обычной жизни. И подобно рабу, который радуется во сне воображаемой свободе, а когда начинает подозревать, что его свобода всего лишь сон, боится пробуждения, потакая своим приятным иллюзиям, чтобы и дальше обманываться, так и я нечувствительно для себя впадаю в свои старые мнения и боюсь пробудиться от этой дремоты из страха, что трудное бодрствование, которое сменит это спокойствие, не только не добавит сколько-нибудь света познанию истины, но и не будет достаточным для того, чтобы рассеять мрак тех трудностей, которые и так беспокоили меня» [164].
Читать дальше
![Анатолий Ахутин Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] обложка книги](/books/407742/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs-cover.webp)