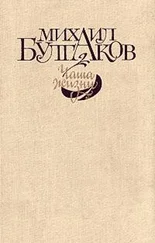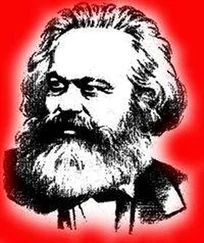Молодой Маркс, еще не зная точного экономического объяснения этому отчуждению, связывает его со всей сложностью диалектики отношения между субъектом и объектом и с приобретением человеческого опыта, когда с ясным пониманием антропологической тенденции к универсализации говорит об объективном человеке, о внешнем мире, об отчужденной реальности, перед которой человек стоит как перед объективной возможностью своего освобождения, но которой субъективно не может достигнуть. Человек, живущий в эпоху частной собственности и товарного производства, сводит все к чувству обладания, к акту формального заключения частного в общем, к форме присвоения людей и вещей, чему соответствует хищное поведение капитала. Жизненные проявления приобретают форму отчуждения собственной жизни, в которой, несомненно, заключены также многообразные нужды и интересы, которые субъект обращает к внешней стороне, но преимущественно только на уровне вида; при капитализме человек развертывает производительные силы вида только при условии индивидуального обнищания. Революционный переворот означает – уже потенциально, в конкретно-утопическом, насыщенном материальными запросами ожидании заинтересованных индивидов – резкое изменение этой ситуации: производительные потенции общества и человеческого рода могут развернуться только при условии, что все богатство чувств и мысли, которое капитал обрек на объективирование, будет вновь обретено субъектом и индивидуально развито. Один из мотивов революционного переворота состоит в необходимости для человека вернуть себе собственное отчужденное внутреннее богатство, покончив со столь мучительным для него отсутствием индивидуальной человечности.
Может быть, речь идет об идеалистическом требовании, о субъективистской утопии? На практике, в плане революционного обоснования, это как раз то, что в социальном плане представляется как сознательный союз, как та «ассоциация производителей», в которой «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» («Манифест Коммунистической партии»).
Поздний Энгельс очень ясно указывает на необходимость этих субъективных мотиваций; он констатирует, что прошло то время, когда небольшие сознательные группы могли поставить себе целью неожиданно захватить власть, и что теперь сами массы, очевидно, поняли, «за что идет борьба, за что они проливают кровь и жертвуют жизнью» [73]. Однако Энгельс аналитически не развивает проблемы, касающейся условий возникновения революционной субъективности.
Политическая экономия рабочей силы как культурная теория субъективности. Задачи и перспективы
К революционным процессам не следует подходить исключительно с позиций действующих субъектов, ибо период революций, осуществляемых меньшинством, прошел, как прошла и эпоха революций, проводимых авангардами. Приняться за проблему революции в условиях позднего капитализма – значит сегодня снова вернуться к Энгельсу и проследить ту линию развития марксистской теории, которая идет в специфическом русле истории разложения буржуазии и которую сталинизм в течение почти полувека объявлял вне закона, – линию, олицетворяемую Розой Люксембург, ранним Лукачем, Коршем, Грамши. Тем не менее возвращение Маркса и Энгельса к той европейской обстановке, для которой и была разработана первоначально их теория и которая оказала глубочайшее воздействие на семантическое содержание каждой отдельной категории, не может произойти сразу и без трудностей. Если, как говорит Энгельс, во время будущих революционных переворотов люди захотят узнать, чего они должны ждать и за что им следует бороться, то материалистическая наука как раз и ставит перед собой задачу изучить в деталях, какие процессы происходят в самом субъекте и в чем заключены противоречия, которые приводят к преобразованию общества.
Вот некоторые положения на сей счет.
1. То, что традиционная буржуазная культура потеряла способность к социальной интеграции, не является особо оригинальной истиной. Гораздо сложнее решить проблему, состоящую в том, что одновременно во всех развитых капиталистических странах индустрия сознания достигла масштабов, не имеющих прецедентов в прошлом. Но культура, и в частности индустрия культуры, не возникает, если она не нужна, по крайней мере в условиях жизни классового общества. Следовательно, проблема ставится следующим образом: на какую опасность, которая угрожала бы господствующему классу, реагирует эта могучая индустрия сознания, которая благодаря электронным средствам информации практически в состоянии предложить всей вселенной все формы культуры, которые существовали до сего дня? Первый ответ таков: эта индустрия сознания, которая становится все могущественнее, специфически реагирует на противоречия, корни которых уходят в кризисы капиталистической системы господства; тем не менее эти кризисы – как особенно энергично подчеркивал Юрген Хабермас– давно перестали быть обычными кризисами валоризации капитала. Это кризисы оправдания и мотивации, которые, как таковые, непосредственно влияют на всю жизнь людей, уже не скованную императивами капиталистического способа производства традиционных ценностей. Говоря о всей жизни, я имею в виду широкую гамму видов человеческой деятельности: от производства, которое служит материальному самосохранению и поддержанию тела, до социализации и различных форм выражения фантазии. Эта ткань разорвана в нескольких местах, ее части развиты далеко не в одинаковой степени, и тем не менее присутствуют аспекты идентичности. Центр организации этого жизненного комплекса – рабочая сила.
Читать дальше